Христианские истоки русской лексики и фразеологии
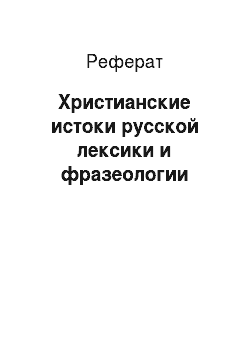
Так, еще на заре восточнославянской письменной культуры (XI в.) неизвестный переводчик с греческого «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия обозначает словом город укрепленный пункт, построенный язычниками, но после воздвижения в нем храма, когда он становится священной столицей еврейского народа, называет его градом как словом более высокого ранга. Автор «Слова о полку Игореве» тоже умел тонко… Читать ещё >
Христианские истоки русской лексики и фразеологии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Поскольку культура нашего народа исторически тесно связана с православием как формой приобщения к духовным вершинам европейской цивилизации средневековья, вне православия невозможно говорить не только о корнях нашего общественного сознания и характере мировосприятия, но и о корневой системе русского искусства — словесного, живописного, архитектурного, вокального, книжного, ювелирного и многих других. Ведь само посещение церкви — «врачевницы души» — для наших предков было приобщением к красоте храма и его внутренней отделки, к живописи (иконы, фрески), красоте чугунного и бронзового литья (узорчатые решетки ограды, царских врат, подсвечники и паникадила), красоте музыки (простые и знаменные распевы хоров и полухорий, вокальные партии баса и баритона, дискантные хоры мальчиков, колокольные звоны), красоте слов и образов сакральной поэзии молитв, псалмов, акафистов; красоте произведений ювелирного и ткаческого искусства (церковной утвари, иконных риз, одежд священнослужителей), даже к эстетике запахов (благовония, кадила). Все в храме было призвано пробуждать высокие мысли о духовных началах бытия и воспитывать определенный социокультурный тип поведения, утверждая в нем важнейшие ценностные ориентации.
Для большинства наших современников литургия (богослужение) и в общественном, и в частном преломлении — это практически неизведанный культурный материк со своим годовым и суточным вращением, в котором человек, воспитанный в духе казенного атеизма, нередко с удивлением узнает «знакомых незнакомцев» — прототипы современных профанных понятий вроде канон, праздник, чин, престол, причастие, преображение, откровение и т. д.
Христианские истоки нашей лексики и фразеологии всецело были предопределены историческими условиями возникновения и развития русского литературного языка как главного орудия духовной культуры.
Здесь следует заметить, что выпускники средней школы, как правило, неплохо разбирающиеся в сложных проблемах естественных и физикоматематических наук, удивительным образом обнаруживают слабое, а нередко и превратное понимание такого важного культурологического понятия, как литературный язык. Литературный язык любого народа предназначен не только для литературы (то есть искусства художественного слова, тем более, что нередко в эстетических целях используются и нелитературные языковые средства), но для выражения и развития религиозно-философской, научной, общественно-политической мысли. Феномены литературного языка и языка народного (то есть ненормированного просторечия и региональных диалектов) достаточно резко противостоят друг другу по своему предназначению (как язык культуры и язык бытового общения), по своей природе (искусственная заданность, управляемость, ориентация на монологическую речь — в первом случае, и полнейшая стихийность, свобода, ориентация на диалогическую речь — во втором), по характеру и направлению развития (литературный язык консервативен и стремится к единообразию, народно-разговорный гораздо более динамичен и легко развивает местные различия), по наличию письменной формы речи и др. Более того, во многих культурных ареалах литературный язык и народноразговорный представляют собой два разнородных начала в генетическом и типологическом отношениях.
История распорядилась так, что культурно-языковая ситуация у нас на Руси сложилась уникально счастливым для литературного языка образом.
К моменту знакомства с христианской письменностью живая речь русичей-язычников звучала не только в повседневном быту, но и имела развитые фольклорные традиции (обрядовой поэзии, пословиц, сказок, заговоров, дружинного песнетворчества и др.), а также традиции публичных выступлений при решении правовых, военных, дипломатических и иных вопросов. В развивающемся молодом государстве остро ощущалась необходимость письменного закрепления всех достижений народной культуры. Первым литературно-письменным языком наших предков стал пришедший из Болгарии старославянский язык (по другой терминологии, древнецерковно-славянский или древнеславянский), очень близкий как по своему словарю и звуковому строю (структура слога была одного типа), так и по грамматическим формам слов и своему синтаксическому построению.
Будучи литературным языком, старославянский представлял собой упорядоченную, искусственно обработанную форму разговорной южнославянской речи, в этнической основе которой лежал солунскомакедонский диалект древнеболгарского языка. С самого начала создатели письменности стремились к наиболее точному переводу священных книг христианской Византии, а потому язык «словенский» имел возможность унаследовать величавую простоту слога и высокую образность «божественной эллинской речи». Древними русичами X—XI вв. язык-пришелец воспринимался как «свой», как высокоавторитетный культурный вариант языка восточных славян, который нес на себе печать богопознания. Очень выразительно определил уникальное взаимодействие народно-разговорного языка наших предков с культурным славяно-византийским «привоем» поэт серебряного века Вячеслав Иванов, считавший, что еще в своем «младенчестве» русский язык был облагодетельствован таинственным крещением в животворящих струях языка церковно-славянского, который претворил его плоть и духовно преобразил его душу, его «внутреннюю форму»1.
Крещение Руси и «крещение» языка переосмыслило внутреннее содержание таких, например, слов, как Бог (ранее «податель благ, владыка»), Господь (ранее «господин, хозяин, владелец»), жертва (от жърЬти, что значило «благодарить, восхвалять»), вое-кресение
(от крЪсити, что первоначально значило «высекать огонь», сравним крЬсало в значении «огниво»; следовательно, еще в языческую эпоху представление об оживлении, оздоровлении связывалось с воздуванием жертвенного огня — крады), грех (образованное, подобно смех, успех, с помощью суффикса -хъ от грЬти, что значило «жечь, мучить»), покаяние (от каяти в значении «наказывать, мстить»). Глубоким сакральным смыслом, уводящим в сложную символику христианской доктрины, наполнилась лексема слово, о чем речь пойдет ниже.
По выражению древних, «святоплодное» воздействие церковно-славянского языка приобщило восточных славян к духовным достижениям мировых культур и дало целостную картину бытия в основополагающих терминах нового религиозного вероучения: Троица, Спас, Спаситель, благодать, богопознание, евангелие (то есть благовествование), Богородица, ангел, архангел, серафим, херувим, пророк, апостол, богоподобный, праведник, ад, геена, диявол, антихрист, грешник и др.
Христианское миропознание потребовало введения в словарь наших далеких предков IX—X вв., к примеру, таких важных отвлеченных понятий, как вселенная, вечность, время, пространство, истина, жизнь, бытие, явление, благо, откровение, милость, святыня, величие, милосердие, подвиг, возмездие, деяние, вещь, работа, нищета, сущий, священный, первородный, спасти, хранить, дерзать, благодарить, исповедовать и многих других, а также слов-понятий знание, философия, грамота, стих, книгочий, глава и подобных.
Органическое слияние двух «кровнородственных» языковых стихий: живого, кипящего родника восточнославянской речи и торжественновеличавых «глаголов» «святых иноческих книг» — дало мощный толчок развитию гибкой и многообразной стилистической системы русского литературного языка. Варьирование исконно русских и церковно-славянских форм на протяжении тысячелетней истории нашей письменности — яркое проявление уникального богатства русской языковой культуры.
Такие варианты широко представлены в фонетических соответствиях полногласных и неполногласных образований: волочить — влачить, ворота — врата, голос — глас, дерево — древо, здоровье — здравие, золото — злато, молоко — млеко, молодой — младой, полон — плен, перед — пред и т. д.; в параллельных начальных звукосочетаниях ро- / раи ло- / ла-: ровный — равный, розница — разница, лодка — ладья и т. д.; в соотносительных парах с шипящими согласными ж / жд и ч / щ: невежа — невежда, рожать — рождать, меж — между, насажать — насаждать, вожак — вождь; ночь — нощь, мочь — мощь, свеча — свеща, отвечать — отвещать, горячий — горящий, могучий — могущий; в параллелизме начальных йотированных и нейотированных гласных: один — един, олень — елень, ягненок — агнец, я — аз, урод — юродивый, узы — со-юз; в произносительных парах букв ё и е под ударением: бытиё — бытие, вдохновлённый — вдохновенный, ещё — еще и в целом ряде других закономерных параллелей.
Так, еще на заре восточнославянской письменной культуры (XI в.) неизвестный переводчик с греческого «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия обозначает словом город укрепленный пункт, построенный язычниками, но после воздвижения в нем храма, когда он становится священной столицей еврейского народа, называет его градом как словом более высокого ранга[1]. Автор «Слова о полку Игореве» тоже умел тонко различать церковно-славянский и исконно русский варианты слов, употребляя их в соответствующих контекстах. «С вами, русици, хощу главу свою приложите (то есть погибнуть в бою), а любо испита шеломомь Дону», — торжественно, почти клятвенно, звучат слова князя Игоря, обращенные к дружине перед решающей битвой с половцами. Здесь церковно-славянское неполногласие употреблено в составе фразеологизма с отвлеченным значением. Напротив, для изображения вражеского войска избирается сниженная языковая краска: «Камо, тур, поскочаше, своимъ златымъ шеломомъ посвечивая, тамо лежать поганыя головы половецкыя». Аналогично полногласие народного языка в обращении «черный ворон, поганый половчине» противостоит более торжественному языковому варианту с неполногласием при изображении скорбно-траурной картины «княжьих крамол»: «Тогда по Русской земли р^тко pATAeirfc киклхуть (то есть редко пахари покрикивали), ггъ часто врлни грляхучгь (вороны граяли), трупп a cec’fe д^ляче…».
Отшлифованные вековыми традициями смыслового и стилистического варьирования, церковнославянизмы вошли в плоть и кровь русского литературного языка как наше национальное достояние. Многие из них вытеснили исконно русские (восточнославянские) параллели: бремя, среда, сладкий, храбрый, освещение, пища, нужда, надежда, юный, юг, восток, восстание, вопрос, небо, перст и т. д. Показательно, что выделить пласт генетических церковнославянизмов даже в современном литературном языке далеко не всегда возможно с полной достоверностью, и из этого проистекают не только разные их количественные оценки (А. А. Шахматов — не менее 60—70%, Ф. П. Филин — около 10%)[2], но и различные теоретические подходы к истории отечественного литературного языка.
Выразитель идеалов христианского сознания, старославянский язык предоставил русской народной речи высокоавторитетные образцы (модели) словообразования, обогатив смысловыми и стилистическими оттенками уже имеющиеся приставки и суффиксы, или же введя в русскую словообразовательную систему новые элементы. Сравним, к примеру, ставшие у нас широко продуктивными приставки пре-, пред-, чрез-, раз- (исконно русские варианты пере-, перед-, через-, роз-), приставки архи-, наи-, суффиксы отвлеченности в словах на -ание, -ение,
-(е)ство, -ие, -ость или даже новый тип образования слов с помощью основосложения. Так, по образцам византийско-«словенских» «краснейших речений» типа православие, вседержитель, страстотерпец, благословить, благоговеть, добродетель, целомудрие, светоносный, милосердный и подобных в современном литературном языке утвердилось великое множество слов (в том числе и включающих какие-то другие «наследные» черты старославянского языка), сфера употребления которых очень далека от их породившей: Советский Союз, правительство, здравоохранение, инакомыслие, всероссийский, звукопроводящий, пуленепробиваемый, широковещательный и т. д.
Красоту и образность русской литературной речи во многом определила церковно-книжная традиция, при этом священное Писание и особенно главная книга христианства — Новый Завет — веками служили непересыхающим источником крылатых слов и фразеологических выражений. Сравним: терновый венец (Мк.15.24); кромешная тьма (Мф.8.12); соль земли (Мф.5.13); не хлебом единым (Мф.4.4); нищие духом (Мф.5.3); не оставить камня на камне (Мк.13.2); кесарю — кесарево (Мф.22.21); нести крест свой (Лк.14.27); слуга двух господ (Лк.16.13); блудный сын (Лк.15.13); ставить во главу угла (Лк.4.); зарыть свой талант в землю (Мф.25.25); войти в плоть и кровь (Мф.16.17);лшр дому сему (Лк.10.5); глас вопиющего в пустыне (Мф.3.3) и многие другие. Благодаря религиозному воспитанию и образованию, устойчивые обороты в сознании говорящих обычно сохраняли свою генетическую связь с притчами и аллегориями евангельского текста, опираясь на хорошо известные ситуации, и тем самым опознавались как цитаты или крылатые слова общеевропейского культурного фонда, к примеру: имеющий уши слышать да слышит; нет пророка в своем отечестве; метать бисер перед свиньями; не ведают, что творят; избиение младенцев и другие.
Особую выразительность придают нашей литературной речи сочетания существительных конкретно-предметного значения и отвлеченного, изысканность которых унаследована из церковно-славянского источника: плоды просвещения, бразды правления, меч правосудия, зерно истины, цветы красноречия, корень зла, столпы мудрости и т. д., а также сочетаемость с ними глаголов конкретно-физического действия: испить чашу терпения, опустить меч правосудия, задуть свечу разума, вырвать корни преступности, насаждать ростки правосознания и т. д.
Даже краткий обзор основных путей воздействия «плоти и духа» церковнославянского языка на язык отечественный в его высшей нормированной форме дает возможность по достоинству оценить, к сожалению, прерванные на долгие десятилетия традиции русского гуманитарного образования, включавшего в себя овладение древнеславянской грамотой. Отлучение нескольких поколений от культурно-национальной почвы не могло не сказаться на общем речевом уровне, как теперь говорят, «русскоязычных» современников. Отсюда нарушения литературной нормы, непростительные для людей, получивших образование на родном русском языке, нередко звучат у нас даже с телеэкрана, в том числе и из уст видных политиков: «благословление патриарха» вместо «благословение»; «раскаивание» вместо «раскаяние»; «съезд отвёрг сотрудничество с президентом» вместо «отверг»; «вдохновлённые депутатские речи» вместо «вдохновенные»; «невинно убиённые» (о членах царской семьи) вместо «убиенные» и т. д.
В течение тысячелетия наш первый письменно-литературный язык сохранялся не только как церковно-славянская речь и орудие взаимного общения славян между собою, но и как духовная опора самобытности русской этнической культуры.
История нашего слова крест (старославянское и древнерусское кръстъ) говорит о том, что славяне познакомились с христианством около IV в., еще до распада праславянского единства. От германцев (видимо, готов) сакральное имя Christus (Христос) было заимствовано с закономерными фонетическими преобразованиями «kristos > кръстъ для обозначения символа христианской религии, воплощающего в себе «таинство искупления, совершенного крестной смертью Спасителя» (Дьяч., с. 270). Дальняя этимология этого слова обычно однозначно интерпретируется словарями как греческая калька с древнееврейского mashiakh «помазанник» в виде Хршт6<; (Сравним греческое %рюца — «мазь, деревянное масло»), откуда она проникла в латинский и германские языки (Черн. I, с. 443) как собственное имя.
Таким образом, с именем Христа этимологически у нас связано большое гнездо слов с корнем крест: крестить, крещение, крестный, крестник, окрест, окрестность, крестовый и т. д.
Слова крьстити, кръщение, называющие ритуал инициации, таинство посвящения в христианство, известны всем славянским языкам и вошли в обиход еще до разделения славян на восточное и западное вероисповедание, то есть не позже, чем в период деятельности Кирилла и Мефодия. Однако активная жизнь этих слов на Руси начинается в X в. (напомним, что княгиня Ольга крестилась в 955 г., в 988 г. крестился князь Владимир, и началось массовое крещение Руси). Символика голгофского креста в восточновизантийской и впоследствии православной ветви христианства играет более значительную роль, чем в западной[3]. Об этом, в частности, свидетельствует наличие Крестопоклонной недели в годовой литургии православной церкви; поклонение Кресту Господню каждую среду и пятницу — дни суда и казни Христа; не единичное, а многократное осенение себя крестным знамением не только при молитве, но и просто в значимые моменты жизни православных верующих (Сравним, например, современное разговорное слово междометного характера окстись, то есть окръстись, — с упрощением группы согласных после утраты слабого редуцированного). В момент испуга или сильного потрясения в разговорно-просторечном обиходе до сих пор еще используется заклинательная формула С нами крестная сила.
Изначально священная для Киева улица, названная Крещатиком, была заложена вдоль ручья, в котором крестились сыновья Владимира и другие знатные «кыяне».
Многие производные слова от крест до сих пор сохраняют свой сакральный смысл, обозначая важнейшие реалии православных верующих: крестины «совершение таинства крещения, посвящения в христианскую веру»; крестные (родители) — «духовные восприемники от церковной купели», «поручители перед церковью за веру крещаемого» (Дьяч., с. 269); крестник — «тот, за кого поручился его крестный родитель перед церковью»; крестовушка — «крестный брат» или «крестовая сестра». По данным В. И. Даля, крестовый (-ая) — «названый побратим и посестра, с которыми братаются, меняясь тельными крестами, при зароке вечной дружбы, крестятся и обнимаются» (Д., II, с. 191).
Замечательная способность слова впитывать в себя самую разнообразную информацию об исторической жизни народа особенно ярко проявляется в глубокой смысловой перспективе слов окрест, окрестный, окрестность старославянского происхождения, обозначающих этноисторическое пространство. Их можно до конца понять лишь в контексте русского православного бытия, традиций храмового зодчества и градостроительства. См., например: А живущимъ окрестъ святи Софш въ Великомь НовЪгород’Ь, тако же и окрестъ святыя Троица во ПсковЪ, а тЬма многа л’Ьта (Псков, лет. I. 6958 год).
Известно, что восточнохристианская традиция культа креста акцентировала жертвенные страдания Спасителя и требовала, чтобы крест (в основном, 6- или 8-конечный, включающий титла и подножие) был высоким, с тем чтобы освятить воздушный океан[4] и в качестве орудия спасения знаменовать победу жизни над смертью — главную теологическую идею христианства. При этом, как показал М. Ф. Мурьянов, в жизни православных верующих очень важен ритуал воздвижения креста и применение креста в качестве навершия любого сакрального архитектонического ансамбля — им увенчиваются иконостас, киот, хоругвь, арочная роспись, архиерейский посох, головной убор патриарха и, конечно же, храмовый купол. Более того, при строительстве храмов всегда учитывался рельеф местности и избирались открытые, возвышенные места, наиболее соответствующие их назначению — быть духовным и архитектурным центром улицы, селения, города, посада. Кресты храмовых куполов по всей Руси — это всегда высшие точки обзора, откуда видна самая дальняя линия горизонта и наиболее обозрима панорама местности. Именно поэтому понятия окрестный, окрестность для православного сознания были насыщены не только глубоким религиозным смыслом креста как символа очищения воздушного пространства и ограждения от обитающих в нем злых духов, но и включали в себя емкий, эстетически значимый зрительный образ родной земли.
Не менее насыщена и историко-культурная аура современного русского слова крестьяне (на которое, к сожалению, идет агрессивное наступление чужеродного слова фермер), тоже этимологически связанного с именем Христа. Если в языческие времена сакральное имя могло подвергнуться и подверглось при устном заимствовании определенной фонетической и морфологической адаптации (слово крьстъ, о котором уже говорилось), то это же имя после таинства посвящения в новую веру, тем более при письменном заимствовании, имело тенденцию сохранять звуковой состав греческого слова, включая и окончание им. падежа ед. числаос; с несвойственным славянскому языку IX в. конечным согласным.
От имени Христос (род. падеж вначале имел варианты Христоса и Христа) очень рано отражены образования христити (как вариант кръстити) и христиане, христианьскыи (варианты крестьяне, крестъянъскыи), возникшие по аналогии со словом крест.
Так, слово крестианъ в значении «последователь христианского вероучения» отражено в древнеболгарской Супрасльской рукописи X—XI вв. (где подвижник Савин говорит о себе: крестъянъ же есмь (л. 147); в восточнославянском же Изборнике Святослава 1076 г. в рассуждениях о правой вере и делах «благочьстива христьяна» параллельно употребляется образование от более новой транслитерации сакрального имени. Вместе с тем в знаменитой приписке дьякона Григория к Остромирову евангелию (1056) говорится о предназначении евангелия «на утешение многам душам крестианьскамъ».
Фонетическая вариативность русских слов при обозначении приверженности к христианскому вероучению держалась вплоть до XIV— XV вв. Однако со временем в этих вариантах развивается семантическое расхождение, и слова крестьян, крестьянин, крестьянка в языке Московской Руси приобретают значение социальной характеристики низшего податного сословия пахотных земледельцев[5]. Так, в жалованной грамоте князя Федора Федоровича, написанной около 1440 г., зафиксировано уже новое значение: князь передает «игумену с братьею» свою «деревню… со крестьяны». Значение «земледелец, сельский труженик» развивается только в русском языке и не знакомо украинскому и белорусскому, что объясняется социальными причинами. Дело в том, что в городах Руси, как это хорошо известно из исторических источников, жили люди разных вероисповеданий, особенно в Московской Руси, где проживали мусульмане, иудеи, католики («литвины»); но в сельской местности после вытеснения язычества вера была единой — христианской (точнее — православной).
В Московской Руси XVI—XVII вв. крестьяне-земледельцы уже повсеместно различаются по принадлежности той или иной категории владельцев: крестьяне государевы, боярские, княженецкие, монастырские, метрополичъи и т. д. При этом они дифференцируются и по несению повинностей в пользу владельцев: крестьяне оброчные, тяглые, пашенные (Сл. XI—XVIII, с. 49) Г Именно в этот период широко функционируют уменьшительно-уничижительные образования крестъянинец, крестъянишка (о), крестъянщишка (о), крестъянинко, в том числе как этикетная самоуничижительная формула крестьянских челобитных: Бьет челомъ… крестьянишко Максимка Кандратьев сын Можаевъ (1682); Царю государю… бьетъ челомъ и являетъ сирота твой, Тотемского уЬзда, Уфтюские волости крестъянинко, Анашка Амосовъ Пудовъ (1644 г.) (Сл. XI—XVIII, с. 50).
Понятийное содержание слова крестьянин в русской социальной истории изменилось достаточно существенно, но в дореволюционной России это слово оставалось прежде всего сословным наименованием, включая в себя значение «земледелец» как основное занятие всего сословия. После отмены сословного деления советской властью и декларирования равенства граждан перед законом созначение «сельский житель, занимающийся преимущественно земледельческим трудом» приобрело главенствующую роль в смысловой структуре слова крестьянин.
В широком же контексте русской классической литературы и советской деревенской прозы крестьяне выступают как хранители корней духовного бытия русского общества, несущие свой крест тяжелого, но благородного и очищающего душу труда. Герои Тургенева, Л. Толстого, Некрасова, Лескова, как и многие другие крестьянские образы — Шукшина, Распутина, Астафьева, Солженицына, воплощают сущностные начала в нравственном, социальном и эстетическом опыте народа. И не случайно Лев Толстой устами Платона Каратаева — «олицетворения всего русского, круглого и доброго» — выговаривал слово крестьянский как христианский («Война и мир», IV, гл. XIII), оживляя и подчеркивая пути народной речемысли.
Для русского этнического бытия очень показательна также история слова воскресение в современном значении «седьмой день недели, следующий за субботой и предшествующий понедельнику», «общий день отдыха на неделе». Это собственно русское семантическое новообразование, которое вытеснило древнерусское слово недьля в том же значении (Срезн., II, с. 380), сохранившееся в других славянских языках, в том числе украинском (неделя) и белорусском (нядзеля), и мотивированное глаголом дьлати, вследствие запрещения церкви заниматься в этот день житейскими делами.
Кульминацией церковного года в жизни православных верующих всегда являлось празднование не Рождества Христова (как у католиков[5]
и протестантов), а Воскресения Господня, или Пасхи, первый день которой обычно назывался великъ дънь (см., например, в «Слове на антипасху» Кирилла Туровского (XII в.): Воскресеше Христово Великъ день наричется). Его, как известно, отмечают с особой торжественностью после великого поста и страстной недели как главное событие священной истории — светлый праздник воскрешения из мертвых Спасителя, отсюда этот праздничный день у всех славян получил название Воскресение. Песнопения, прославляющие это сакральное событие, назывались воскреснами (Дьяч., с. 95), и их надлежало петь во все первые дни церковных «седьмиц» (церковных недель), которые начинались с вечера субботы — другими словами, в те нерабочие дни, которые в честь Воскресения Христова в Московской Руси, конечно, не без влияния недельного литургического цикла стали именовать воскресными днями. Новое значение слова воскресенье как нерабочего дня недели зафиксировано поздно, 1590 годом (Срезн., III, доп., с. 56). Расширение значения этого слова, как и общая секуляризация жизни, активно проходившая в Петровскую и послепетровскую эпоху, способствовали установлению иного недельного счета времени: воскресенье у нас не первый, а седьмой день недели.
При исторической рефлексии на слово, нацеленной на полноценное понимание и даже вчувствование в него, условность автоматизированного знака многих наших слов блекнет, уступая место их оживленному восприятию. Так, христианская мировоззренческая система все еще легко реконструируется, например, в таких десакрализированных идеологемах, как современные преставиться «скончаться», покойник «умерший», отпетый «законченный, пропащий, безнадежный в своих отрицательных качествах», причастие, причастность «соучастие», причастный «имеющий отношение к чему-либо». При этом первые два слова мотивированы христианской моделью космоса (этот свет — тот свет, или земля — вечный покой), то есть преставиться значило «переместиться с этого света на тот свет», «перейти в потусторонний мир»; покойник значило «тот, чья душа обрела вечный покой». Весьма показательно, что это слово принадлежит к грамматическому классу одушевленных существительных: Сравним зарыть труп (вин.п. = им. пад.), но похоронить покойника (вин. пад. = род. пад), и иначе в православном сознании и быть не могло, так как у покойника душа мыслилась живой. Сравним типичные речевые формулы народной культуры: Покойный дедушка, царство ему небесное, был правдив (Д., III, с. 242).
Память о важнейших обрядовых действах (таинствах) православной церкви запечатлена в словах отпетый (этимологически: «тот, по которому совершено отпевание как чин погребения усопшего» (Сравним: синонимическое выражение: на нем уже поставили крест), причастие (причащение) — таинство приобщения к искупительной жертве Христа, во время которого «верующий под видом хлеба причащается истинного Тела Христова, а под видом вина — истинной Крови Христовой, и, таким образом, становится причастником жизни вечной» (Дьяч., с. 594).
Одним из самых показательных и значимых культурных пластов лексики и фразеологии любого языка является его речевой этикет — церемониально-обрядовые формулы вежливости. Русский речевой этикет сформировался под сильнейшим воздействием тысячелетней православной культуры и в полной мере отразил в себе ценностные ориентации христианского сознания.
Так, до сих пор еще не угасла до конца внутренняя мотивировка важнейшей формулы для выражения благодарности — слова спасибо, которое возникло в результате лексикализации словосочетания спаси Бог, обозначающего пожелание вечного спасения души как высшей христианской ценности. Здесь следует заметить, что сакральное пожелание спасения не сразу утвердилось в виде речевого церемониала благодарности, вначале оно употреблялось в качестве прощальной формулы при расставании. Так, в известном «Сказании о Борисе и Глебе» его герой — муромский князь Глеб, отчаявшись устыдить своих убийц трогательными словами о своей «уности» (и здесь возникает один из самых поэтических образов древней книжной литературы: молодой юноша уподоблен незрелому колосу, «млеко беззлобия носящему»), прощается с белым светом. При этом, согласно житийному канону, его этикетный плач и рыдания полны христианского смирения, а потому сакральная формула спасения в его устах адресована не только близким, но и врагу Святополку: спасися, милый мой отче и господине Василие, спасися, мати и госпоже моя, спасися и ты, брате Борисе, старшино уности моея, спасися ты, брате Ярославе, и ты, брате и враже Святополче, спаситеся и вы, братие и дружино, вси спаситеся; уже не имамъ васъ вид" Ьти в житии семь" (Усп. сб. 14 б, 1А—23)Г Фразеологизация выражения спаси Бог при выражении благодарности, видимо, началась в конце восточнославянского периода, в XIII— XIV вв. Сравним современное украинское cnacu6i из спаси Eiz, употребляемое наряду со словом дякую («благодарю»). Заметим, однако, что в белорусском языке в значении «спасибо» известно лишь слово дзякуй (великае дзякуй — «большое спасибо»[7][8]). Слияние двух слов (в церковнославянском произношении [спаси бох]) и отпадение конечного щелевого произошло позже, в русском языке в XVI—XVII вв. Так, «Парижский словарь Московитов» 1586 г. фиксирует выражение благодарности как одно слово: espasibo переводится как mercy, хотя в автобиографическом «Житии» (70-е гг. XVII в.) Аввакум еще сохраняет исходное словосочетание: «Да и малчику тому спаси бог, который… по книгу ходилъ» (л. 270). В народной речи слово спасибо часто употребляется в предметном значении, нередко получая соответствующее падежное оформление существительного среднего рода: За хлебсоль не платят, кроме спасибо; Своего спасибо не жалей, а чужого не жди (Д., IV, с. 288). Интересно, что до настоящего времени старообрядцы при выражении благодарности предпочитают речевую формулу Награди тебя Бог или Спаси Господи. По данным словаря Г. Куликовского, они избегают слова спасибо, ложно этимологизируя его как спаси бай, где под названием бай усматривают имя языческого божества[9].
Поскольку сакральный смысл спасения в истории русского этикета стал связываться с выражением благодарности, то в качестве этикетной формулы при расставании мотив спасения был вытеснен другим изначально христианским и не менее глубоким сакральным мотивом, воплощенным в слове прощай (те). Такое приветствие при расставании отражает идею покаяния как главный стержень православной этики. Расставаясь навсегда или надолго, русский человек просит простить его.
Например, носитель английского языка в качестве прощального приветствия высказывает тоже христианское по своему исходному смыслу пожелание, но оно мотивируется иначе: good-bye этимологически god to be; аналогична и внутренняя форма французского слова adieu (итальянское addio), которая, как и английское good-bye, более всего соответствует нашей речевой формуле С богомд.
Чувство вины как основа морали в русской этнической психологии, конечно, не случайно, а предопределено акцентами православного мировосприятия и воспитания. Характерно, например, что изначально крещение Руси воспринималось как «обращение Русской земли в покаяние» (Повесть временных лет, 6496 г.), в котором усматривался единственный путь к спасению. Сравним слова Феодосия Печерского «Покаяние есть путь вводяи в породу», то есть вводящий в райское блаженство (Срезн., II, 1103). В древней церкви покаяние было публичным, позже была введена тайная исповедь. Судя по Дубенскому сборнику церковных правил и поучений (XVI в.), «мужеску полу подобаетъ прити в покаяше (то есть на исповедь. — Л. С.) девяти лЪтъ, а женску полу шести лЪт сущи» (Срезн., там же). Заметим в этой связи, что у протестантов, например, хотя и предусмотрено покаяние, для которого назначена среда второй недели поста, но оно ограничивается молитвами и «общим разрешением грехов от пастора, без исповеди» (Дьяч., с. 446).
Не случайно древнерусский глагол каяти «порицать, исповедовать» (Срезн., 1, 1202) легко развивал значения «жалеть, оплакивать»: так, сходя с горы Елеонской и глядя на Иерусалим, «Господь окаял» его (Христианская топография Козьмы Индикоплова, XVII в.). Соответственно причастие окаяныи (окаяньныи) употреблялось изначально в смысле «несчастный, жалкий, грешный». Когда в уже цитированном отрывке князь Глеб перед смертью прощается со всеми, он называет своего убийцу окаянным, но в его устах это отнюдь не бранное слово. Глеб здесь выступает печальником о своем грешном, а потому достойном сожаления брате. Как пишет по этому поводу автор «Полного церковнославянского словаря» протоиерей Г. Дьяченко, «в прозвании Святополка окаянным выражается высокая черта народного славянского духа: христианское сожаление к человеку, мучимому виновною совестью» (с. 248).
Готовность к осознанию вины, склонность к покаянию как ментальная черта запечатлена во множестве русских вводных слов, фразеологизмов, присловий, изречений: каюсъ; грешен; виноват; прости Господи; грешным делом; эх, грехи наши тяжкие!; чего и греха таить; взял грех на душу; и смех и грех; с грехом пополам; смертный грех; прости, коли в чем виноват; не поминай лихом; простите на глупости, не судите на простоте (Д., III, с. 513); отпусти душу на покаяние; наш грех больше всех; наших грехов что в поле снегов; дай Бог умереть, да дай Бог и покаяться; супротив греха и покаяние; грешна плоть, но грешен и разум; богатство перед Богом великий грех, а бедность — перед людьми; по-давидски грешим, да не по-давидски каемся и многие другие. В народном церемониале приема гостей принято усаживать за стол со словами Просим прощенья за наше угощенье; в ответ на приветствие Живы ли, здоровы? традиционно отвечали: Во грехах, да на ногах или же Живы своими грехами, вашими молитвами (Д., 1, с. 402). По обычаю, умирая, прощаются с белым светом и добрыми людьми по пословице Кайся Богу, проси прощения у людей.
Этимологический смысл современных слов прощаться, прощание еще до конца не угас, и в этом отношении показательна шутливая присказка в записи В. И. Даля: Простите или прощайте навсегда, — сказал умирающий грамматик детям своим, прибавив: «И то, и другое одинаково правильно» (Д., III, с. 513). К сожалению, — добавим от себя, — он не успел пояснить, что это две видовые формы одного глагола: совершенного вида (простите) и несовершенного (прощайте), в которых уже наметилось определенное смысловое расхождение.
А. С. Пушкин, как художник слова, необычайно чуткий к особенностям русской речемысли, рисуя «Татьяны милый идеал», избирает для нее более прозрачную по своему внутреннему смыслу формулу прощания с родными местами:
Простите, мирные долины, И вы, знакомых гор вершины, И вы, знакомые леса;
Прости, небесная краса,.
Прости, веселая природа.
Прости ж и ты, моя свобода!
Смутное иррациональное чувство непонятной вины перед родными рощами и полями и даже перед собственным образом жизни, переполняющее пушкинскую героиню накануне разлуки и перемен, — это производная от той всеохватывающей черты ее натуры, которую автор определил так: Татьяна — «русская душою». И разве не то же национальное мировосприятие удивительно точно подсказало А. С. Пушкину выбор языковой краски в заключительных строфах «Евгения Онегина»? Сравним:
Кто б ни был ты, о мой читатель, Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться ныне как приятель.
Прости…
Прости ж и ты, мой спутник странный, И ты, мой верный идеал, И ты, живой и постоянный, Хоть малый труд…
При этом нельзя не отметить, что, казалось бы, синонимичное слово прощай (те) во всех названных случаях прекрасно укладывается в тот же ритм и размер стиха, но поэт делает единственно возможный выбор того словарного варианта, в котором глубже культурно-этическая память, а значит, ярче выступает духовный опыт народа, столь близкий его душевной настроенности.
Нравственная философия нашего этикета — это и неотъемлемая часть самого духа русской культуры, и его закономерное порождение. Свидетельством тому, в частности, могут служить слова Семена Афанасьевича Венгерова — выдающегося филолога, неутомимого исследователя русской художественной мысли, который, будучи сыном немецкой писательницы, считал себя «скромным рыцарем Ея Величества русской литературы». Говоря об особом очаровании русской словесности, уносящей читателя «в светлую лазурь идеала», он усматривает его истоки в том, что «ее создатели — это „кающийся дворянин“, по гениальной терминологии Михайловского, и равный ему по социальному положению интеллигент-разночинец, желающие искупить перед народом вину вековой привилегированности (выделено мной. —Л. С.)»[10]. Жгучие терзания мятущейся совести, страстная потребность очищения, душевного катарсиса, изнурительные покаянные исповеди — все это во многом определяет высокий нравственный заряд русской литературы, притом не только в лице ее великих мучеников совести Гоголя и Л. Толстого, в концу своей жизни осудивших плоды собственных литературных трудов как ненужные народу, но и в лице едва ли не всех ее столпов — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Достоевского, Блока, А. Белого, Есенина и других. Таким образом, за скромными и столь обычными словами нашего повседневного обихода прощай (те), прости (те) стоит очень устойчивое этическое представление национальной русской культуры, в своих истоках обусловленное, конечно же, православным сознанием.
Но, как говорили древние, «на прежнее возвратимся».
Этикетные формулы встречи и прощания близких людей после длительной разлуки по русскому обычаю издавна сопровождаются целованием. Древнерусский глагол цЬловати (однокоренные слова целый, цельный, целить, целитель) имел этимологический смысл «делать целым, невредимым, исцелять», из которого позже развилось значение «желать здоровья, благодарить». Само действие по глаголу цЬловати у наших предков еще с языческих времен было приветствием, известным германским, романским и другим индоевропейским народам. Оно мыслилось как магический знак благопожелания (исландское однокоренное слово heill — «добрый знак»).
Однако только в византийской ветви христианства целование (кстати, изначально это было «щйловлние въ оустл» — Служебник Антониев, XIII в., л. 23) приобрело важное литургическое значение как символ веры в Троицу «братьев во Христе», а затем и ритуальнообрядовое значение. При отправлении богослужения чин целования предшествует пению символа веры, он также важен для священнослужителей и перед пострижением в малую и большую схиму, а тем более — в литургии пасхального дня, который мыслится как праздник очищения от грехов всех верующих через искупительную жертву Христа и праздник победы жизни над смертью. Соборные «радость и ликование» этого дня издавна включали в себя ритуал целования при взаимных поздравлениях («Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»), который на Руси получил название христосоваться, христосование. Троекратный (во славу Троицы) поцелуй этого ритуального действа символизирует равенство всех христиан (разных сословий, чинов, возрастов, разного пола) перед Богом. Еще в византийской традиции, по словам Иоанна Златоуста, «общим словом всех целующихся» было «радуйся». Характерно, что даже последнее прощание (целование усопшего) осмыслялось как «приветственное поздравление с преставлением от временного жития в блаженную вечность» (Дьяч., 806)[11].
Что же касается целования пасхального, то с ним в православном сознании всегда была связана великая нравственная чистота русского «праздника праздников», особая духовная природа которого не раз побуждала наших писателей к эстетическому воплощению душевного космоса русского человека в эти самые важные для него событийные дни священной истории. Так, сюжет романа Льва Толстого с глубоко символичным названием «Воскресение» завязывается именно в пасхальную ночь, и это позволяет автору предельно укрупнить масштаб мыслей и чувств, обуревающих героя — князя Нехлюдова — накануне его нравственного падения: «Когда он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута светлого Христова Воскресения застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье со складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные, чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевитые черные глаза, и на всем ее существе две главные черты: чистота девственности и любви не только к нему, — он знал это, — но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире, — к тому нищему, с которым она поцеловалась.
Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно. Ах, если бы все остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь!".
Радость всеохватной любви и тихое, благоговейное умиление главного церковного праздника в народном сознании тесно связывались с христосованием всех верующих.
Появившееся не ранее XVIII в. чисто русское слово поцелуй (Сравним другую модель в украинском поцшунок и белорусском пацалунак) образовалось редким способом опредмечивания волеизъявительной формы (императива) — подобно словам нагоняй, богатей, чистоплюй и скорее всего свой речевой исток получило в диалоге детей с родителями.
Заключая разговор о речевом этикете, заметим, что диалогическая обиходная речь даже сейчас, когда практически прошла фронтальная десакрализация, обмирщение христианской идиоматики, отличается широким использованием этикетных формул, поминающих «имя Божье». Сравним ответ на приветствие Как здоровье? в виде реплики Слава богу (то есть хорошо, то же в пословице «Дай бог хорошо, а слава богу лучше»), ответную реплику на извинение Ну, бог с тобой («Ну, ладно»), пожелание работающему Бог в помощь, привычную формулу при выражении опасения, озабоченности сохрани бог, избави бог, помилуй бог; при просьбе, увещании ради бога, ради Христа и т. д.
Чаще всего эти и подобные языковые клише, впитавшие в себя смысл контекстов, функционируют только как сигналы эмоций, то есть в междометной функции: Боже мой! О господи! Господи Исусе Христе! Свят, Свят! Дай боже! Ей-богу! и пр. Сравним каламбур некоего остряка, предложившего «медаль в память докучной войны в помощь соседней державе: с лица русский герб при надписи С нами Бог!, с изнанки — герб противников и надпись Бог с вами!» (Д., 1, с. 103). Инверсия во фразеологизме здесь порождает два противоположных эмоциональных сигнала: воинственный клич уверенных в будущей победе ратников и усталый жест прощения как знак конца войны.
Нередко через церковнославянское посредство наш литературный язык усваивал греческие слова и целые выражения, которые в русской культуре получали дальнейшее развитие уже десакрализованных, мирских значений.
Например, современные слова канон «обязательная норма, образец» и канун «период времени, предшествующий какому-либо событию» имеют общим источником греческое слово kocvwv «палка, мерило», которое уже в древнерусских памятниках зафиксировано в обоих фонетических вариантах (Срезн., 1, 1190—1191) и первоначально обозначало:
- 1) церковное правило, установление;
- 2) определенный жанр церковного песнопения весьма сложной иерархической структуры: 9 од, каждая из которых включала в себя тоже 9 (иногда 6—3) тропарей (иначе — стихир), причем первый тропарь выступал в качестве связки (ирмоса), и по образцу его структуры, его напева строились другие тропари;
- 3) день перед церковным праздником (обычно перед одним из 12 основных праздников православной годовой литургии). День исполнения канона, прославляющего религиозное событие, по светскому календарю оказывается предшествующим празднику: ведь главный молебен служат во время всенощной (с 6 часов вечера), когда начинается отсчет церковных суток, то есть «на каноне» (или «на кануне») праздника. Во временном значении у нас закрепился фонетический вариант су (народное произношение), при этом значение предшествующего дня расширилось до неопределенного временного отрезка, предшествующего какому-либо памятному событию.
Из других слов, восходящих к греческому источнику, интересна история современных лексем катавасия «суматоха, кутерьма», куролесить «озорничать, проказничать» (MAC дает ему помету просторечное, II, с. 48), восклицания исполатъ «Слава! Хвала!», а также слово антиномии в просторечном фразеологизме разводить антимонии. Все эти греческие заимствования были творчески освоены нашими предками в связи с традициями церковного пения.
После окончания канона или его отдельной песни (оды) для повторения ирмоса на середине храма сходились певцы двух полухорий, или клиросов, представляющих хоры ангелов. Видимо, при этом нередкими были сбои в тоне и ритме, поэтому схождение клиросов — катавасия (греческое катавасия), — получило сниженное переносное значение «суматоха, кутерьма». Аналогична история глагола куролесить, запечатлевшего неслаженное повторение хором ирмоса куролЬсу (Дьяч., с. 276). В переводе с греческого кирш s? i8r|aov значит «Господи помилуй». Сдвиг значения «петь вразнобой» > «проказничать, озорничать» заставляет предположить изначальное бытование слова куролесить в жаргоне семинаристов.
Слово антимонии входит в состав современного фразеологизма разводить антимонии, что значит «вести длительные ненужные разговоры» и восходит к общему названию церковных песнопений антифоны (греческое aviupcovoq). Обычно они исполняются не менее трех раз попеременно каждым клиросом, и в жаргоне семинаристов возникло сниженное переосмысление этого церковно-обрядового действа, которое затем распространилось в общенародном просторечии[12].
Приветственная здравица церковного хора при выходе епископа звучит по-гречески лоХка ёп, что в переводе значит «на многая лета». Это выражение у нас лексикализовалось как исполатъ, которое употребляется в народно-поэтической и книжно-литературной речи в роли междометия и передает одобрительную, поощрительную оценку, обозначая «хвала, слава». Сравним: Исполатъ тебе, детинушка, крестьянский сын, Что умел ты воровать, умел ответ держать (нар. песня); Ну, Расплюев, исполатъ! Необычайную ты вещь достал! (Сухово-Кобылин).
Рассмотренные слова, восходящие через церковнославянское посредство к греческому источнику, в истории русского языка изменили область своего бытования и оказались полностью оторванными от конфессиональной сферы.
Семантико-стилистические характеристики других слов, изначально связанных с христианской идеологией, не так однозначны: многие из них сохраняют синкретизм профанного и сакрального значений в качестве непереводимого национального компонента. Именно в этих случаях словари современного русского языка снабжают церковное значение пометой устареет, (и в этом нельзя не заметить отражение идеологии времени их создания), не вынося новое значение в отдельную словарную статью.
В заключение заметим, что поскольку слово не существует вне контекста, то забота о языке — это прежде всего забота о сохранении макроконтекста культуры, которая является по отношению к языку естественной питательной средой.
- [1] Мещерский Н. А. «История Иудейской войны» в древнерусском переводе. М.-Л., 1958. С. 433.
- [2] Шахматов А. А. Очерк современного русского литературного языка. М., 1941.С. 69, 90. Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 60.
- [3] Об этом подробней см. Муръянов М. Ф. Статьи Тита Бострского в Изборнике1073 г.// Изборник Святослава 1073 г.: Сборник статей. М., 1977. С. 312.
- [4] Об этом пишет византийский церковный деятель Тит Бострский в статье, вошедшей в переводной сборник, составленный в Киеве XI в. См. там же, с. 313.
- [5] Словарь русского языка XI—XVIII вв. / Под ред. Ф. П. Филина, Г. А. Богатовой.Вып. 8. М., 1981. С. 49.
- [6] Словарь русского языка XI—XVIII вв. / Под ред. Ф. П. Филина, Г. А. Богатовой.Вып. 8. М., 1981. С. 49.
- [7] Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971. С. 52.
- [8] Беларуска—pycKi слоунж. / Пад рэд. К. К. Крапивы. М., 1962. С. 247.
- [9] Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия. СПб., 1898. С. 111.
- [10] Венгеров С. А. В чем очарование русской литературы XIX века? (Речь, произнесенная в Москве 22 октября 1911 года на праздновании столетнего юбилея ОбществаЛюбителей Российской Словесности) // Русская словесность, 1993, № 2. С. 24.
- [11] Широко распространенное в церковной традиции целование священных предметов в знак поклонения и почитания, то есть прикладывание губами к кресту, иконам, мощам, евангелию, отразилось в историзмах целовальник, целовальная (грамота), знакомым по многочисленным упоминаниям в классической литературе. Дело в том, чтоцелование креста, иконы, евангелия очень рано стало обозначать клятву, присягу. Какписал Владимир Мономах в «Поучении» своим детям, тот, кто преступает крестное целование, не сумев его соблюсти, «губить свою душу» (л. 80). Целовальниками на Руси XV—XVI вв. называли присяжных людей (Срезн., III, с. 1450) — выборных должностных лицрусского государства, собиравших подати и исполнявших судебные и полицейские обязанности. Позже целовальниками стали называть и виноторговцев, присягавших в том, что без утайки от казны доложат о своих доходах (Дьяч., с. 806).
- [12] Зеленин Н. Д. Семинарские слова в русском языке // Русский филологическийвестник. Варшава, 1905, № 3. С. 113.