Концептуализация света и тьмы в языковой картине мира Ф.М. Достоевского: на материале романа «Преступление и наказание»
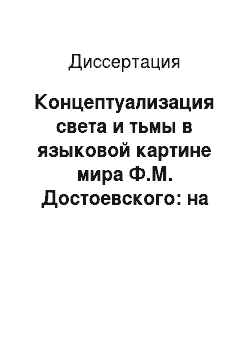
Признаки основных средств вербализации онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА — концептов свет и тьма (мрак), выявленные выше, репрезентируют также концептуальные поля, выделяющиеся в структуре текста. Мы рассматриваем концептуальное поле в узком смысле — как конкретное смысловое наполнение какого-либо отдельно взятого концепта: образное, понятийное, символическое, семантическое. Полевая… Читать ещё >
Содержание
- ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
- 1. «Концепт» и «концептуализация» как основополагающие термины когнитивно-ментальных исследований
- 1. 1. История вопроса. Разные подходы к определению его содержания
- 1. 2. Художественный текст и его концептуальный анализ как средства выявления и изучения художественных концептов
- 2. СВЕТ и ТЬМА в русском сознании
- 2. 1. Философское и этнокультурологическое наполнение феноменов СВЕТА и ТЬМЫ
- 2. 2. Национальная специфика концептуализации СВЕТА и ТЬМЫ в лексико-фразеологической системе русского языка
- 1. «Концепт» и «концептуализация» как основополагающие термины когнитивно-ментальных исследований
- 1. Характеристика основных средств концептуализации феноменов
- 1. 1. Лексемы «свет», «тьма», «мрак» и их производные как основные имена и языковые репрезентанты одноименных концептов
- 2. Концепты Бог и дьявол как средства представления концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ
- 2. 1. Ключевые слова «Бог», «Господь» — «дьявол», «черт», «бес» как основные номинаты концептов Бог и дьявол
- 2. 2. Вторичные номинаты оппозиции Бог — дьявол как дополнительное средство репрезентации данных концептов
- 3. Концепты любовь и ненависть как средства вербализации концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ в тексте романа
Концептуализация света и тьмы в языковой картине мира Ф.М. Достоевского: на материале романа «Преступление и наказание» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Последние десятилетия прошлого века стали временем становления нового лингвистического направления, получившего название когнитивного, которое характеризуется ориентацией на исследование ментальной деятельности человека (см. работы Н. Д. Арутюновой, Е. С. Кубряковой, Ю. С. Степанова, А. Вежбицкой, Ю. Н. Караулова, В. В. Колесова, З. Д. Поповой, И. А. Стернина, М. Я. Дымарского, А. Д. Шмелева и др.). Вместе с тем концептуализм признается особым типом познания (Колесов 2000;2004).
Стало очевидным понимание языка как средства, с помощью которого возможно исследование ментальных структур, так как «языковые данные обеспечивают наиболее очевидный и естественный доступ к когнитивным процессам и когнитивным механизмамсамо их появление можно рассматривать как следствие процесса и действия определенных механизмов, связанных с ментальной и когнитивной деятельностью человека» (Кубрякова 1994, с.41). Такая традиционная проблема языкознания, как связь языка и мышления, получила новое рассмотрение в рамках когнитивного направления лингвистики, сущность которого заключается в антропоцентричности, предполагающей изучение языка в целях всестороннего и глубокого постижения его носителя (Е.С. Кубрякова). Тем более что язык является вместе с тем способом и условием существования человека. В лингвистических работах последних десятилетий индивидуальный стиль художника слова изучается с учетом соотношения языка и мышления, способов выражения в языке внеязыковой действительности, знаний о мире, законов организации языковой картины мира отдельной личности.
Таким образом, можно говорить о том, что когнитивная лингвистика изучает связь ментальной концептосферы человека и семантической составляющей языка, получающей вербализацию с помощью языковых знаковв результате чего языковой субъект, языковая личность может быть исследована путем анализа средств представления (концептуализации) ментальной картины мираконцептов.
Языковые средства, репрезентирующие (объективирующие, вербализующие) художественные концепты, функционируя в произведении, группируются в концептуальные поля и ассоциативные группы на основе общности и сочетаемости их индивидуально-авторского наполнения. Известно, что значение слова определяется особенностями сочетания данного слова с другими словами, иногдаболее широким контекстом или ситуацией (Шмелев 1964, с. 130). При этом мы, ориентируясь на ментальную концепцию языка в плане речемыслительной деятельности, определяем значение слова как процесс: в нем отражается диалектическое соотношение общего и особенного, устойчивого и подвижного. Подвижность лексического значения слова позволяет использовать слово для наименования новых объектов и является одним из факторов художественного словесного творчества (ЭС, с.262). В таком случае языковая динамика будет включать в себя синхроническое функционирование и историческое развитие.
Мы разделяем точку зрения ученых, которые в языке с его универсальными категориями, такими, например, как СВЕТ и ТЬМА1, видят условие, способ и результат освоения мира человеком, то есть феномен, обеспечивающий цельность миробытия.
1 В диссертации используются следующие условные написания: СВЕТ и ТЬМА, осмысливаемые как онтологические, универсальные категории мироустройства, пишутся прописными буквамикак концепты — строчными буквами и курсивом (в названиях параграфов, написанных курсивом, строчными буквами обычным шрифтом) — как единицы лексической системы — строчными буквами обычным шрифтом и заключаются в кавычки.
Согласно данному подходу к языку мы в качестве рабочей в нашем исследовании принимаем когнитивно-ментальную концепцию языка с акцентом на трактовке его как речемыслительной деятельности. Ментальная концепция языка вбирает в себя все остальные подходы (логический, функциональный, структурный), так как эта концепция позволяет наблюдать язык в действии и в статике.
Настоящая работа выполнена в русле когнитивно-ментальных исследований и посвящена выявлению и анализу основных средств и способов представления онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА в языковой картине мира Ф. М. Достоевского на материале романа «Преступление и наказание».
Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Когнитивная лингвистика, в рамках которой проводилось исследование, является одним из перспективных направлений языкознания. Основу когнитивизма составляет антропоцентрический принцип, одним из проявлений которого является исследование проблем концептуализации и вербализации языком мировосприятия человека и в особенности таких древних, универсальных и мироорганизующих по сути категорий, как СВЕТ и ТЬМА.
Актуальным представляется также и тот факт, что слово в художественном тексте может выступать как компонент и синтезатор национальной культуры, которая определяется количеством унаследованных концептов (Ю. М. Лотман). Последние под влиянием мировоззрения творца художественного текста зачастую несколько видоизменяют (трансформируют) свою семантическую наполняемость. То есть создаваемая языком картина мира автора есть субъективный образ объективного мира. Таким образом, актуальным представляется изучение индивидуально-авторской языковой картины мира, представленной концептосферой конкретного произведения, постижение которой представляется возможным путем анализа конкретных языковых средств, объективирующих составляющие концептосферыконцепты.
Еще один фактор, обосновывающий актуальность настоящего исследования, определяется тем, что большинство работ, посвященных изучению художественного наследия Ф. М. Достоевского, и, в частности, романа «Преступление и наказание», носит литературоведческий характер. Так, например, анализу романа «Преступление и наказание» посвящена работа Н. И. Павловой «Роман Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание“ в школе: Роль композиции в структуре целостного анализа». Роман «Братья Карамазовы» стал материалом для исследования в работе М. А. Жирковой «Исповеди в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» «. Эстетико-онтологические основания раннего творчества Достоевского рассматриваются в одноименной работе Землянской H. J1.
Исследований лексико-семантического, концептуального плана по языковому творчеству Достоевского немного, можно сказать, что язык художественных произведений Достоевского представляется недостаточно изученным именно в когнитивно-ментальном аспекте, в частности, не проанализировано концептуальное пространство СВЕТА и ТЬМЫ и его вербализаторы в языковой картине мира величайшего и сложнейшего русского гения XIX века. Актуальность исследования определяется также и тем, что содержание произведений Достоевского и, конкретно, романа «Преступление и наказание» напрямую перекликается с состоянием современной нам действительности, характеризующейся возвращением к православию после более чем полувекового попрания религиозных основ бытия. Более того, «в творчестве Достоевского разработана наиболее полная национальная характерология и типология, внутри которой были названы и определены все типы национальной ментальности, унаследованные культурой XX столетия» (О.Ю. Юрьева 2004, с. 177).
Цель исследования — выявить состав, охарактеризовать средства и способы концептуализации и речеязыкового воплощения онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» как важнейшей составляющей языковой картины мира автора — предопределила постановку и решение следующих конкретных задач:
• проанализировать процесс становления концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ как наиболее древних и универсальных категорий мироустройства, а именно:
— определить концептуальное наполнение рассматриваемых явлений;
— рассмотреть этимологические связи имен концептов, наполняющих концептуальные миры СВЕТА и ТЬМЫ;
— проследить динамику развития семантических структур соответствующих лексем по данным различных лексикографических источников;
— наметить пути перехода от слова как факта системы языка к слову как факту системы речи (текста).
• определить этнокультурологическое наполнение оппозиции СВЕТ — ТЬМА в русском языковом сознании, а именно:
— опираясь на философский и мифологический опыт, описать символические значения рассматриваемых явлений;
• охарактеризовать средства и способы языкового представления концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ в индивидуально-авторском мировидении Достоевского, а именно:
— описать концептуальные оппозиции, репрезентируемые в тексте посредством ключевых слов, вторичных номинаций, синонимических и антонимических рядов, концептуальных полей, целых контекстов и др., организованных в соответствии с полевой структурой языка и концепта, представленной ядром и периферией (ближней и дальней);
— используя данные лингвистических парадигм (концепт, группа, ряд, поле), выстроить целостную систему их взаимодействия в картине мировидения автора и героев произведения.
Материалом для настоящего диссертационного исследования послужил прозаический текст художественной литературы XIX векароман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Кроме того, в работе использовались пословицы и поговорки русского народа, собранные В. И. Далем, отражающие народное (коллективное) мировидение, являющееся фундаментом (основой) индивидуально-авторского мировосприятия. В работе использовались данные современных толковых, этимологических, фразеологических и энциклопедических словарей, а также материалы библейских энциклопедий и справочников. Использовались данные личной картотеки, насчитывающей около 5 тыс. карточек. Привлекались материалы исторических словарей.
Научная новизна исследования. Современная филология ориентирована на исследование ментального содержания слова как первоосновы русской национальной культуры, что позволяет увидеть через слово ментальность русского народа и его выдающихся представителей, к которым несомненно принадлежит Ф. М. Достоевский.
Описанием различных уровней и сторон языковой ментальности человека занимаются многие исследователи (см. работы Ю. Н. Караулова, А. Вежбицкой, В. В. Колесова и многих других).
В настоящей работе впервые дается описание содержания, средств и способов языкового выражения оппозиции СВЕТ — ТЬМА, характерных для индивидуально-авторского сознания конкретной творческой личности, в данном случае — для Ф. М. Достоевского, и отразившихся в тексте его романа «Преступление и наказание».
Кроме того, научная новизна сочинения состоит в том, что при исследовании слова, не только извлеченного из текста (текст — источник материала), но и вновь спроецированного на него (текст — объект внимания), требуют осмысления как языковые концепты, обычно изучаемые на основе словарных значений слова, так и соотносимые с языковыми художественные концепты, исследуемые уже на базе контекстных значений слова и предъявляемые полями или группами с соотношениями «дополнение, наложение» на основе близости и сочетаемости их индивидуально-авторского наполнения. Таким образом, слово осмысливается не только как факт языка, но и как факт речи.
В работе кроме традиционных языковых средств представления оппозиции СВЕТ — ТЬМА представлены специфичные именно для Достоевского репрезентанты концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ. Это контекстные синонимы и антонимы, концептуальные поля и ассоциативные группы.
Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в дальнейшем расширении смыслового наполнения онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА через обращение к индивидуальному стилю Достоевского на материале романа «Преступление и наказание», что позволило исследовать и описать индивидуально-авторские особенности и языковой картины мира писателя, включающей в себя как уникальные фрагменты, так и черты общечеловеческой и общенациональной ментальности.
Положения, выносимше на защиту:
1. СВЕТ и ТЬМА — наиболее древние и универсальные категории мироустройства, мироорганизующие по сути, определяющие все сферы бытия человека, сложившиеся еще в дохристианскую эпоху.
2. Христианская религия способствовала персонификации членов оппозиции СВЕТ — ТЬМА, отождествив СВЕТ с Богом, ТЬМУ — с дьяволом, в результате чего Бог и дьявол стали основными вербализаторами и символами СВЕТА и ТЬМЫ. Таким образом, на первосмыслы «хорошо», «благо», «источник жизни», с одной стороны, и «плохо», «страх», «смерть», с другой, наложились дополнительные семы «абсолютное добро», «святость» и «абсолютное зло», «грех», определив основное смысловое наполнение концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ.
3. В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» универсальная, онтологическая оппозиция СВЕТ — ТЬМА представлена такими концептами, как: свет — тьма (мрак), Богдьявол, любовь — ненависть и др., и предстает как явление системное, целостное, символически емкое в культурно-историческом плане, определяющее все сферы бытия человека.
4. Основные репрезентанты концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ — концепты свет и тьма (мрак) — имеют в романе многослойную полевую организацию, основанную на авторском их осмыслении и представленную ядром, ближней и дальней периферией. Ядро концепта свет составляют лексемы словообразовательного гнезда «свет», вербализующие в тексте романа главным образом признак «добро». Ядро концепта тьма (мрак) представлено словами «тьма», «мрак», их словоформами и производными, реализующими в тексте романа главным образом признак «зло».
5. Ближняя периферия концептов свет и тьма (мрак) образована концептуальными полями «болезнь» и «шум» (концептуальное пространство ТЬМЫ), «числа» и «цвет» (конституенты КП «числа» и «цвет» репрезентируют оба члена оппозиции СВЕТ — ТЬМА), репрезентирующими авторское содержание данных концептов.
6. Дальняя периферия представлена ассоциативными группами «пространство» и «антропонимы», также выражающими авторское мировосприятие, которое характеризуется однозначной положительной (СВЕТ) или отрицательной (ТЬМА) оценкой членов оппозиции СВЕТ — ТЬМА.
Практическая значимость настоящей работы заключается в возможности использования полученных результатов при составлении ассоциативных словарей, словарей концептов русского языка, в исследованиях, связанных с особенностями идиостиля Ф. М. Достоевского. Результаты исследования могут найти применение в страноведческом аспекте изучения русского языка как иностранного, в вузовском преподавании лингвистического анализа текста, при чтении спецкурсов и спецсеминаров по проблемам когнитивной лингвистики, по языку художественной прозыв научной работе студентов и аспирантовна уроках комплексного анализа текста, в курсе русской словесности в гуманитарных классах средних школ, в гимназиях и лицеях.
Цели и задачи диссертации определили комплексную методику исследования, включающую два направления лингвокогнитивного анализа: от смысла к форме и от формы (языка) к смыслу. Первое направление определяется представлениями человека о мире, его мировосприятием, из которого вычленяются признаки исследуемых явлений, существующие в сознании носителей языка, затем рассматриваются языковые средства, используемые для их вербализации. Второе направление позволяет изучить набор семантических признаков лексем, представляющих концепты, наполняющие концептуальные миры членов изучаемой оппозиции. Текст романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» рассматривался в разных аспектах: концептуальном, логическом, функциональном. В работе использовались следующие методы исследования: описательный (материал относится к одному синхронному срезу) — функциональный (материал описывается от содержания к форме) — структурный (материал характеризуется и от формы к содержанию) — сопоставительный (привлекаются факты древних и современных индоевропейских языков) — концептуальный (слово описывается как воплощение ментальности, концепт).
Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 9 публикациях и изложены в докладах на международных и всероссийских конференциях: III М1жнародно1 конференцн, присвячено'1 Свропейському Дню Мов «М1жмовна й м1жкультурна взаемод1я: теоретичш та прикладш аспекти» 25 — 27 сентября 2006 г., г. ЛуганскXII Всероссийской научно-практической конференции «Филология и школа: Словесность и формирование культуры и мировоззрения школьников» 7−8 ноября 2005 г.- XI Всероссийской научно-практической конференции «Мировая словесность для детей и о детях» 30−31 января 2006 г., г. МоскваXII Всероссийской научно-практической конференции «Мировая словесность для детей и о детях» 30−31 января.
2007 г., г. Москвана Всероссийской научно-практической конференции «Отражение русской ментальности в языке и речи» 8−9 апреля 2004 г., г. Липецкна ежегодных научных конференциях профессорско-преподавательского состава и студентов ЛГПУ (2004, 2005, 2006).
Структура работы определяется целью и задачами, поставленными в исследовании. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка. Главы подразделяются на параграфы, в конце каждой главы содержатся выводы. Во введении определяются объект исследования, его предмет, формулируются цель и задачи исследования, научная новизна, практическая ценность работы, обосновывается актуальность, указываются источники материала исследования, приводится перечень основных положений, выносимых на защиту, описываются исследовательские методы.
ВЫВОДЫ.
Текстовым преломлением какого-либо фрагмента мировоззрения писателя, его языковой картины мира является поле, анализ внутреннего строения которого и межполевых отношений позволяет реконструировать языковую картину мира писателя в целом, так как состав и организация поля в системе художественного идиостиля с необходимостью определяется языковой личностью писателя. В науке существуют разные именования поля (семантическое, лексико-семантическое и т. д.), но думается, что специфику функционирования поля в художественном произведении в соответствии с когнитивно-ментальной концепцией языка наиболее полно отражает термин «концептуальное поле», под которым следует понимать способ функционирования в языке и речи образной, понятийной и символической составляющей концепта. Представляется, что при изучении концептов вполне правомерно применять метод поля, независимо от того, какое определение концепта принимается за основное, так как лексические единицы, организующие и репрезентирующие тот или иной концепт, оказываются непременными конституентами поля.
Признаки основных средств вербализации онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА, концептов свет и тьма (мрак), выявленные в предыдущей главе, репрезентируют также концептуальные поля и ассоциативные группы.
Ближняя периферия концептов свет и тьма (мрак) представлена в романе концептуальными полями «болезнь» и «шум» (концепт тьма), «цвет» и «числа» (концепты свет и тьма).
Анализ текста романа показал, что конституенты КП «болезнь» в подавляющем большинстве случаев вербализуют смыслы «болезнь духовная», «зло», что всецело обусловлено мировосприятием автора, для которого любая болезнь — следствие личного греха, совершенного по злому умыслу сатаны, а следовательно, следствие нарушения духовных взаимоотношений человека с Богом.
КП «цвет» представляет концептуальное пространство ТЬМЫ в романе такими членами, как желтый, черный и красный цветовые символы, реализующие признаки «болезнь», «зло», «страдание», в результате чего наблюдается пересечение концептуальных полей «болезнь» и «цвет». Пространство СВЕТА репрезентировано белым и зеленым цветами, объективирующими в романе смыслы «чистота», «истина», «надежда», «возрождение», «Спасение».
Индивидуально-авторское понимание таких явлений, как СВЕТ и ТЬМА, символически выражается также посредством лексических средств, составляющих КП «числа». Концептуальное пространство СВЕТА представлено такими числовыми символами, как три (символизирует божеское начало в человеке), семь (божественная сила в человеке), пять (символ победы духовного над материальным), восемь (число божественного правосудия). Концептуальное пространство ТЬМЫ представлено главным образом числом «четыре», которое всегда так или иначе в романе связано со страданиями героев, а также числами «тринадцать» и «девять».
КП «шум» представлено производными словообразовательного гнезда «шум», а также глаголами «кричать», «визжать», «стучать», «хлопать», «вопить», «ругаться», «грохотать», «выть» и однокоренными образованиями других частей речи.
Художественное пространство и имена собственные персонажей репрезентируют дальнюю периферию концептов свет и тьма (мрак) и отражают индивидуально-авторское понимание концептуализации СВЕТА и ТЬМЫ.
Художественное пространство в произведении искусства становится особым языком для выражения внепространственных категорий, например, таких, как СВЕТ и ТЬМА, Бог и дьявол, добро и зло. Концептуальное пространство ТЬМЫ в романе «Преступление и наказание» репрезентировано пространственными образами города Петербурга, жилища главного героя — каморки — гроба, конуры, каюты, шкафа, клетушки. Названные пространственные образы эксплицируют признаки «зло», «смерть». Концептуальное пространство СВЕТА репрезентирует образ-символ дома — Ноева ковчега, объективирующего смыслы «Спасение», «возрождение». Пограничными пространственными образами-символами, своеобразными точками перехода от СВЕТА к ТЬМЕ и наоборот в романе предстают мотивы лестницы, порога, двери, моста и перекрестка, где осуществляется нравственный выбор в пользу того или другого.
Номинаты персонажей, главным образом имена собственные, также являются вербализаторами концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ, выражая индивидуально-авторское представление о светлом и темном, божественном и греховном. Так, сочетание фамилии и имени главного героя символизирует раздвоенность главного героя, борьбу внутри него СВЕТА и ТЬМЫ, Бога и дьявола. Аналогичную двойственность заключает в себе имя собственное духовного двойника Раскольникова — Свидригайлова. Только СВЕТ символизируют имена Разумихина и Мармеладовых. «Темную» природу бесовщины запада отражает сочетание имени и отчества Петра Петровича Лужина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Настоящая диссертационная работа выполнена в русле когнитивно-ментальных исследований, характеризующихся антропоценризмом. Частным проявлением антропоцентрического принципа в лингвистике является исследование проблем концептуализации и номинации представлений человека об окружающем мире и в особенности таких философских категорий, как СВЕТ и ТЬМА.
В настоящей работе нами учитываются всесторонне различные характеристики концепта, и в самом общем виде под ним понимается основная единица ментальности, всей картины мира, реализующаяся в смысле и передаваемая словом во всей полноте жизни, от начала его появления — этимона, слова-синкреты — до сегодняшнего времени.
Каждый автор интерпретирует языковой концепт по-своему, но языковая основа у художественного концепта сохраняется, таким образом, языковой и художественный концепты дополняют друг друга.
Мы признаем полевую организацию концепта и исходим из того, что концептуальные поля образуют ближнюю периферию, а ассоциативные группы — дальнюю.
В диссертации исследуется содержание оппозиции СВЕТ — ТЬМА в дохристианском и христианизированном языковом народном сознании, а также способы и средства языкового представления концептуального пространства онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА в индивидуально-авторском мировидении Ф. М. Достоевского.
Анализ этнокультурологического наполнения СВЕТА и ТЬМЫ позволил сделать вывод о том, что в русском языковом сознании СВЕТ и ТЬМА выступают как диалектические мироорганизующие противоположности, как особый способ осмысления, видения мира, как мерило действительности.
СВЕТ и ТЬМА еще в дохристианском сознании наделялись сакральным значением, что подтверждается данными этимологических и исторических словарей, согласно которым слова с корнямисветисвятотносились к единой конструкции и обнаруживали устойчивые коннотации не только со значением святости, но и со значением чистоты, красоты и блага. Христианская религия способствовала персонификации членов оппозиции СВЕТ — ТЬМА, отождествив СВЕТ с Богом, ТЬМУ — с дьяволом.
Проведенное исследование способов и средств концептуализации СВЕТА и ТЬМЫ в романе «Преступление и наказание» позволило сделать следующие выводы. У Достоевского за внешним сюжетом неизменно присутствует и более глубокий пласт повествования, он ведет своих героев через ТЬМУ русской жизни, но во ТЬМЕ этой горит СВЕТ надежды.
Концептуальное пространство оппозиции СВЕТ — ТЬМА пронизывает все художественное творчество Достоевского, все смысловые пласты репрезентируют индивидуально-авторское представление о природе мира и человека, основанное на свободном выборе между добром и злом, Богом и дьяволом, СВЕТОМ и ТЬМОЙ. К этому заключению подводит нас и концептуальный анализ текста романа «Преступление и наказание», рассмотрение в первую очередь ключевых концептов, репрезентирующих онтологическую оппозицию СВЕТ — ТЬМА, к числу которых принадлежат прежде всего такие концептуальные оппозиции, как: свет — тьма (мрак) — Бог — дьяволжизнь — смерть, любовь — ненавистьдобро — зло и др. Лексические единицы, репрезентирующие данные концепты, выстраиваются в обширные текстовые синонимические ряды, оказывающиеся, в свою очередь, в антонимических отношениях по отношению друг к другу и составляющие оппозиции. Так, с одной стороны, выстраивается ряд, составляющий концептуальное пространство СВЕТА, члены которого выступают как контекстные синонимы: «свет», «Бог», «рай», «любовь», «надежда» («упование»), «разум», «истина» («правда»), «человек», «невинность», «совесть», «жизнь», «вера». С другой стороны, находим в тексте лексемы, состоящие в оппозиционных отношениях к вышеуказанным лексемам и представляющие концептуальное пространство ТЬМЫ: «тьма» («темнота», «мрак»), «дьявол» («черт», «бес»), «ад» («содом»), «ненависть», «безнадежность», «отчаяние», «безумие», «ложь», «зверь» («скот»), «разврат» («бесчестье», «грязь», «порок»), «смерть», «безверие».
Названные лексемы, репрезентирующие оппозицию СВЕТТЬМА, образуют ряды, в каждом из которых они связаны отношениями взаимообусловленности, дополнения и единения, что высвечивает исконно синкретное значение концепта. Доминантами указанных синонимических рядов будут выступать лексемы «свет», «тьма», «мрак», их словоформы и производные, являющиеся основными именами и языковыми репрезентантами концептов свет и тьма (мрак), которые, в свою очередь, выступают как основные средства концептуализации онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА.
Концепты свет и тьма (мрак) реализуют в романе в основном значения, зафиксированные историческими и этимологическими словарями, т. е. последовательно реализуют признаки «благо», «хорошо», «источник жизни» (концепт свет) и «страх», «плохо» (концепт тьма).
Ядром концептов свет и тьма (мрак) являются лексемы «свет», «тьма», «мрак», их словоформы и производные, являющиеся их основными именами и языковыми репрезентантами и реализующие в тексте противопоставленность СВЕТА и ТЬМЫ как положительногоотрицательного, соответствующего жизни — соответствующего смерти, чистого — греховного.
Как контекстные синонимы выступают в романе лексемы «свет» -«жизнь», вступающие в оппозиционные отношения с другой парой контекстных синонимов «тьма» — «смерть».
Концепты Бог и дьявол, являющиеся средством представления концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ в языковой картине мира Ф. М. Достоевского, реализуют такие признаки, как «абсолютное добро», «источник жизни» (концепт Бог) и «абсолютное зло», «грех» (концепт дьявол). Основными номинатами концептов Бог и дьявол в романе являются ключевые слова «бог», «господь» и «дьявол», «черт», «бес», их словоформы и производные.
Слово «дьявол» употребляется Достоевским только в сакральном смысле, а бытовое, то есть народное, разговорное значение этого слова, не фиксируется в тексте. Употребление лексемы «бес» в значении «злой дух» выявлено нами лишь в одном случае, лексемы «черт» в данном значении — в трех случаях, выявлены также случаи замены данной лексемы местоимениями «он» и «кто-то». Лексема «черт» в абсолютном большинстве случаев употреблена в значении бранного слова, в то время как слово «дьявол» употребляется автором только в одном из своих значений — в значении «злой дух, противостоящий Богу, сатана». Это позволяет сделать вывод о том, что такие члены синонимического ряда, как «дьявол», «черт», «сатана», «демон», «бес», являются неравнозначными и не равноценными в романе (слова «сатана» и «демон» вообще не встречаются в тексте романа «Преступление и наказание»).
Слово «бог», как показал анализ языкового материала, наиболее употребительно в составе устойчивых выражений, выражающих разнообразные значения, обычно с положительной коннотацией. Достоевский также активно употребляет устаревшую звательную форму «боже», выступающую обычно в функции обращения.
Автором активно употребляется слово «господь» («господи»), нами выявлено 17 случаев его употребления в значении «Бог».
Дополнительным средством репрезентации в романе концепта Бог выступают его вторичные номинаты — «Единый», «Судия», «Вседержитель», «Творец», «Искупитель», «Всевышний». Слово «Всевышний» употреблено в романе 2 раза, другие выявленные номинаты демонстрируют единичную частотность.
Следует отметить также, что такие явления, как Бог и дьявол, не всегда называются Достоевским вышеуказанными именами. Достаточно часто присутствие дьявола как олицетворения темного, нечистого начала имплицитно передается другими языковыми средствами, целым контекстом.
Проведенное исследование позволяет утверждать тождество идей СВЕТ — Бог — жизнь в противоположность ТЬМА — дьявол — смерть, характерное для мировосприятия Достоевского, где лексемы «Бог» и «жизнь» эксплицируют первый член оппозиции СВЕТ — ТЬМА, а «дьявол» и «смерть» — ее второй член.
Концепты любовь — ненависть, наряду с такими концептами, как: Бог — дьявол, жизнь — смерть, являются одним из средств языкового представления концептуальных миров СВЕТА и ТЬМЫ в тексте романа «Преступление и наказание». Данные этимологических и исторических словарей свидетельствуют о том, что в качестве первосмысла концепта любовь выступают семы «вера, надежда, святость, хорошо, добро», что позволяет говорить о правомерности утверждения синонимии таких лексем, как «любовь», «вера», «надежда», «святость» («Бог»), наполняющих концептуальное пространство СВЕТА. В противоположность вышеназванному, первосмыслом концепта ненависть являются семы «зло, плохо, вражда», что подтверждает определение концепта ненависть в качестве одного из средств представления концептуального пространства ТЬМЫ.
Анализ основных средств представления концептов любовь и ненависть в тексте романа «Преступление и наказание» позволил сделать вывод о том, что в языковой картине мира Достоевского антонимические концепты любовь — ненависть, так же, как свет — тьма (мрак) — Бог — дьявол, жизнь — смерть, репрезентируют признаки светлое — темное, положительное — отрицательное, вербализуя онтологическую оппозицию СВЕТ — ТЬМА.
Помимо значений, зафиксированных в словарях, слово в контексте художественного текста приобретает дополнительные смысловые планы, воплощая таким образом мировосприятие автора. Языковые средства объективируют представление Достоевского о том, что в каждом человеке живет спрятанное в глубине его души прекрасное, светлое начало, пробудить которое можно любовью, состраданием и милосердием. Следовательно, можно сделать вывод о том, что для Достоевского как для русского верующего человека, любовь — это, в первую очередь, вера, а, следовательно, любовь =Бог =СВЕТ.
Признаки основных средств вербализации онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА — концептов свет и тьма (мрак), выявленные выше, репрезентируют также концептуальные поля, выделяющиеся в структуре текста. Мы рассматриваем концептуальное поле в узком смысле — как конкретное смысловое наполнение какого-либо отдельно взятого концепта: образное, понятийное, символическое, семантическое. Полевая организация концепта, как языкового, так и художественного, независимо от того, какие определения концепта берутся за основные, представлена отношениями ядро — периферия и характеризуется максимальной концентрацией полеобразующих признаков в ядре и неполным набором этих признаков при ослаблении их интенсивности на периферии. Ю. М. Гаврилов сравнивает ядерное слово с магнитом, который притягивает к себе периферийные элементы. Это могут быть слова, синонимичные и антонимичные ядерному словуоднокоренные ему, производные от него и от всех вышеуказанных слов, т. е. связанные с ядром опосредованно, а также соответствующие фразеосочетания. Все эти элементы в разной мере будут содержать значение ядерного слова (Гаврилов 1990, с.58).
Нами выявлены следующие концептуальные поля, составляющие ближнюю периферию концептов свет и тьма (мрак) в языковой (художественной) картине мира Ф. М. Достоевского: «болезнь», «цвет», «числа», «шум».
Известно, что одержимость дьяволом, темной силой всегда сопровождается болезнью, которая может быть душевной (духовной) и физической. Душевные болезни связаны с нервными и психическими расстройствами. «Психические расстройства в Библии не отделяются от одержимости нечистыми духами, темной, демонической силой» (Библейская энциклопедия 2002, с.234). В лексической системе языка подобные случаи именуются «сумасшествием», «бешенством», «помешательством» и т. п. и реализуют один из признаков концепта тьма — «болезнь».
Слова с корнемболь-: боль, болезнь, больной, болезненно и др. насчитывают в романе 158 употреблений и реализуют все возможные смысловые планы: «болезнь физическая», «одержимость нечистой силой, дьяволом», «душевное страдание». Анализ текста романа «Преступление и наказание» показал, что лексемы словообразовательного гнезда слова «боль» в подавляющем большинстве случаев вербализуют значение «болезнь духовная». Анализ текста романа также выявил случаи, когда одно слово реализует сразу нескольких смысловых планов одновременно.
Признак «болезнь как душевное расстройство» непосредственно содержится также в лексической структуре слов сумасшествие, бешенство, безумие, помешательство, бред и др. Данные лексемы объединены общей семой — «лишение разума, рассудка» и представляют концептуальное пространство ТЬМЫ. С другой стороны, наличие рассудка для Достоевского свидетельствует о душевном (духовном) здоровье и репрезентирует концептуальное пространство СВЕТА, подтверждение чему также находим в тексте романа «Преступление и наказание».
Проведенный анализ лексем КП «болезнь» подтвердил, что данное поле, вербализирующее в романе концептуальное пространство ТЬМЫ, представлено многочисленными словами и выражениями, содержащими одновременно семы «болезнь» и «зло», что также подтверждает причинно-следственную связь понятий ТЬМА — дьявол — болезнь — грех (преступление) — смерть (духовная), с одной стороны, и СВЕТ — Богздоровье — благо — жизнь, с другой.
Лексические средства, реализующие концептуальное поле «цвет», так же как и КП «болезнь», выражают авторскую идею о духовной болезни общества, о ТЬМЕ, поразившей души людей. КП «цвет», символически представляющее концептуальное пространство СВЕТА и ТЬМЫ, представлено в романе неравномерно. Пространство ТЬМЫ представлено более широко, нежели пространство СВЕТА. Основной цвет произведения — желтый — реализует в романе признаки «болезнь», «зло», «страдание», в результате чего наблюдается пересечение полей «болезнь» и «цвет», взаимодополняющих друг друга и представляющих в романе в основном концептуальное пространство ТЬМЫ. Причем последнее также представлено в романе такими членами КП «цвет», как производные «черный» — глагол «почернеть» и причастие «почерневший», а также прилагательным «красный». Концептуальное пространство СВЕТА представлено в романе такими цветовыми символами, как «белый» и «зеленый», объективирующими признаки «чистота», «истина», «надежда», «возрождение», «Спасение».
Анализ членов КП «цвет», представленных в романе, позволяет сделать вывод о том, что индивидуально-авторское осмысление цветовых символов отражает народное коллективное мировосприятие, отраженное в цветовой символике.
Индивидуально-авторское понимание таких явлений, как СВЕТ и ТЬМА, выражается также посредством лексических средств, составляющих концептуальное поле «числа», представляющее ближнюю периферию концептов свет и тьма (мрак) в тексте романа «Преступление и наказание».
Данное поле представлено в романе достаточно широко. КП «числа», так же как и КП «цвет», символически представляет концептуальное пространство СВЕТА и ТЬМЫ в языковой картине мира Достоевского.
Концептуальное пространство ТЬМЫ представлено в романе также посредством лексем, входящих в КП «шум». Ядерным словом этого поля выступает лексема «шум», а также ее дериваты «шуметь» и «шумно». Сема «шум» содержится и в других словах, прежде всего, в глаголах кричать, визжать, стучать, хлопать, вопить, ругаться, грохотать, выть и др., а также в однокоренных образованиях других частей речи. В народном представлении различного рода шум всегда связывался с чем-то отрицательным, темным, нечистым, бесовским (считается, что бесы (черти) всегда передвигаются шумною толпой). Такое же осмысление природы шума, как показал анализ романа, присуще и Достоевскому, в языковой картине мира которого КП «шум» вербализует концептуальное пространство ТЬМЫ.
Дальняя периферия концептов свет и тьма (мрак) представлена ассоциативными группами «пространство» и «антропонимы».
В художественном тексте воплощается объективно-субъективное представление автора о пространстве. Художественное пространство представляет собой модель мира автора, становясь в произведении искусства особым языком для выражения внепространственных категорий, например, таких фундаментальных для мировоззрения Достоевского, как СВЕТ и ТЬМА, Бог и дьявол, добро и зло и т. п. Так, пространство города Петербурга и жизненное пространство главного героя в романе репрезентируют главным образом признак «зло».
Внутреннее движение человека, его выбор между светлым и темным, божественным и греховным, добрым и злым символизируют в романе мотивы лестницы, порога, моста и перекрестка.
Пространство города в романе соотнесено с образом главного героя. Петербург так же двойствен и противоречив, как и порожденный им преступник (с одной стороны, «отвратительная» Сенная площадь, с другой — «великолепная» Нева). Эта двойственность Петербурга и Раскольникова пронизывает весь роман: город, описанный Достоевским, становится своего рода пейзажем души главного героя. В душе.
Раскольникова так же холодно, темно и сыро, как в городе, в котором он живет.
Антропонимы также позволяют выявить наполнение концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ в языковой картине мира Ф. М. Достоевского, так как имена собственные персонажей обязательно соотнесены с содержанием целого художественного текста и участвуют в выражении всех духовных смыслов и мировоззрения автора, являясь одним из важнейших средств воплощения авторского замысла.
Так, фамилия главного героя говорит о внутреннем расколе, раздвоенности, одержимости, в то время как имя говорит о единении и целостности, а вместе они символизируют раздвоенность главного героя, борьбу внутри него СВЕТА и ТЬМЫ, Бога и дьявола. Фамилия, имя и отчество вместе понимаются Достоевским как «раскол родины Романовых» (Белов 1975).
Разумихин выступает как антипод Раскольникова, представляя концептуальное пространство СВЕТА вместе с некоторыми другими персонажами романа, такими, например, как Авдотья Романовна Раскольникова, Софья Семеновна и Катерина Ивановна Мармеладовы.
В целом, можно сделать вывод о том, что номинаты персонажей, главным образом имена собственные, тщательно отбираются Достоевским и являются вербализаторами концептуального пространства СВЕТА и ТЬМЫ, выражая индивидуально-авторское представление о светлом и темном, божественном и греховном.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что индивидуальное мировосприятие Ф. М. Достоевского характеризуется однозначной положительной (СВЕТ) или отрицательной (ТЬМА) оценкой членов онтологической оппозиции СВЕТ — ТЬМА. Но при всей противопоставленности СВЕТА и ТЬМЫ, в языковой картине мира Ф. М. Достоевского их миры представляют собой нерасторжимое, диалектическое единство, взаимоисключающее и взаимопредполагающее одновременно, что подтверждает правомерность философского толкования СВЕТА и ТЬМЫ как единого целого.
В целом, можно сделать вывод о том, что концепты, представляющие пространство СВЕТА и ТЬМЫ, реализуют в романе главным образом сакральные семы, составляющие их первосмыслы. Это определяет реализацию СВЕТА и ТЬМЫ в языковой картине мира Ф. М. Достоевского как универсальных категорий мироустройства, определяющих все сферы бытия человека: онтологическую (концепты свет — тьма (мрак)), религиозную (Бог — дьявол), гносеологическую (истина — ложь), этическую (добро — зло), эстетическую (прекрасноебезобразное), эмоциональную (любовь — ненавистьсчастье — горе).
Список литературы
- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т.6. Л.:1. Наука, 1973. 423 с.
- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. T. l 1.1. Л.: Наука, 1974.-419 с.
- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т.21.1. Л.: Наука, 1975. 399 с.
- Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т.25.1. Л.: Наука, 1975.-405 с.
- Достоевский, Ф.М. Статьи и заметки, 1862−1865. Полное собр. Соч.:
- Аленькина Е.В. Смысловые поля света и тьмы и философско-эстетическая система А. Блока: (На материале поэтических циклов «Снежная маска» и «Фаина») // Функционирование языковых единиц в разных формах речи. Саратов, 1995. — С. 136−141.
- Алимпиева, Р.В. Этнокультурный компонент текста как средство выражения русского национального самосознания // Семантические единицы русского языка в диахронии и синхронии: Сб. науч. тр. -Калиниград: Изд-во КГУ, 2000. С.3−13.
- Альтман, М.С. Достоевский: по вехам имен. Саратов, 1975. — С.30−58.
- Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика синонимических средств языка. -М, 1974.-С.251−252.
- Арутюнова, Н.Д. Лингвистические проблемы референции // Новое в зарубежной лингвистике. 1982. — Вып. XIII. Логика и лингвистика (проблема референции). — С.5−40.
- Арутюнова, Н.Д. Понятия стыда и совести в текстах Достоевского // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. М.: «Индрик», 1999(a) С.300−328.
- Арутюнова, Н.Д. Символика уединения и единения в текстах Достоевского // Язык и культура: Факты и ценность. Под ред. Е. С. Кубряковой. М.: Наука, 2001. — 600 с.
- Арутюнова, Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация: Виды наименований. -М.: Наука, 1974. С.15−27.
- Арутюнова, Н.Д. Введение // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. М.: Наука, 1999(6). С. 3−44.
- Арутюнова, Н.Д. Стиль Достоевского в рамке русской картины мира //Язык и мир человека. 2-е изд., испр. — М.: Языки русской культуры, 1999(b). С. 711−872.
- Аскольдов, С.А. Концепт и слово // Русская речь. Под ред. Л. В. Щербы. Новая серия, П.- Л., 1928. С.28−123
- Афанасьев, А.А. Поэтические воззрения славян на природу. Т.1. М., 1994. С.216−231.
- Афанасьев, А.Н. Живая вода и вещее слово. М.: Советская Россия, 1988. -510 с.
- Бабенко, Л.Г., Васильев, И.Е., Казарин, Ю. В. Лингвистический анализ художественного текста. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского ун-та, 2000. — 232 с.
- Бабурина, М.А. Концепт «Муза» и его ассоциативное поле в русской поэзии серебряного века. Автореферат дисс. .канд. филол. наук. -СПб., 1998.-20 с.
- Бабушкин, А.П. Общеязыковые концепты и концепты языковой личности // Вестник ВГУ. Сер. 1. Гуманитарные науки. — 1997. — № 2.-С.114−118.
- Балли, Ш. Французская стилистика. М.: Иностр. Лит., 1961. — 394 с.
- Бахтин, М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Издание 2-ое. М., 1963. С.235−242.
- Бачинин, В.А. Достоевский: метафизика преступления. СПб.: Наука, 2001.-412 с.
- Беляевская, Е.Г. Воспроизводимы ли результаты концептуализации? (к вопросу о методике когнитивного анализа) // Вопросы когнитивной лингвистики. Тамбов: ТГУ, 2005. — № 1. — С.5−15.
- Бердяев, Н.А. Миросозерцание Достоевского // Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т.2. М.: Искусство, 1994. С.7−150.
- Бердяев, Н.А. Ставрогин // Новое время. 1996. — № 32. С. 77.
- Берестнев, Г. И. Языковые подходы к проблеме архетипов коллективного бессознательного // Языкознание: Взгляд в будущее / Под ред. проф. Г. И. Берестнева. Калининград: Изд-во КГУ, 2002. -С. 164−184.
- Берестнев, Г. И. Семантика русского языка в когнитивном аспекте. -Калининград: Изд-во КГУ, 2002.
- Белов, С.В. Имена и фамилии у Ф.М. Достоевского // Русская речь. -1975, № 5.
- Белов, С.В. Тринадцать ступеней (Петербургские аномалии символы у Достоевского) // Грани, 1994. № 173.
- Бодуэн де Куртенэ, И. А. Некоторые общие замечания о языкознании //Избранные труды по общему языкознанию. Т.1. — М.: Наука, 1963. -С.24−73.
- Брутян, Г. А. Очерки по анализу философского знания. Ереван: Айастан, 1979. — 288 с.
- Бугаева, Л.Д. Идея безумия и ее языковое воплощение в романе Ф.
- Сологуба «Мелкий бес». Дисс.канд. филол. наук. — СПб, 1995. -193 с.
- Булгаков, С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. — 414 с.
- Булгаков, С.Н. Философия имени. СПб.: Наука, 1999. С.235−242.
- Булыгина, Т.В., Шмелев, А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Русский язык, 1997. — 264 с.
- Быкова, Г. В. Лакунарность как категория лексической системологии.- Автореферат дис. .докт. филол. наук. Воронеж, 1999. — С.З.
- Вайман, С.Т. Гармонии таинственная власть. О трагической поэтике.- М.: Сов. Писатель, 1989. 368 с.
- Васильев, Л.М. Теория семантических полей // Вопросы языкознания. 1971. — № 5. — С. 36−113.
- Васильев, Л.М. Современная лингвистическая семантика. М.: Высш. шк., 1990. — 176 с.
- Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. -М.: Русские словари, 1996.-411 с.
- Виноградов, В.В. О теории художественной речи. М.: Высш. шк., 1971.-239 с.
- Виноградов, В.В. Лексикология и лексикография. Избранные труды. -М.: Наука, 1977.-311 с.
- Винокур, Г. О. Понятие поэтического языка // Винокур, Г. О. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1959. — 390 с.
- Гаврилов, Ю.М. Семантическое поле как один из способов систематизации семантики // Семантика и прагматика языковых единиц. Душанбе, 1990. — С. 57−63.
- Гажева, И.Д. Опыт концептуального анализа имени игра II Филологические науки. 2000. — № 4. — С.73−81.
- Гальперин, И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. -М.: Наука, 1981.- 132−133.
- Гамкрелидзе, Т.В., Иванов, Вяч. Вс. Индоевропейские языки и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. С. 522.
- Гардинер, А. Различие между «языком» и «речью» // Звегинцев, В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960. С. 15−20.
- Глобина, Л.Д. Лексико-семантическое поле партитивной лексики в современном русском языке. Дисс. .канд. филол. наук. — Воронеж, 1995.-С.28.
- Горбаневская, Г. В. Семантическое поле звучания в современном русском языке. Автореферат дисс. .канд. филол. наук. — М., 1985. -16 с.
- Громова, Н.А. Достоевский. Воспоминания, письма, дневники. М.: Наука, 2000. -С.90−100.
- Guiraud P. Essais de stylistique. P., 1969.
- Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. С. 75.
- Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985.-451 с.
- Гутина, Е.А. Лексико-семантическое поле в индивидуаьной языковой системе (на материале лексико-семантического поля «обида» в художественной речевой системе М. Горького). Автореферат дисс.канд. филол. наук. — Нижний Новгород, 1997. — 19 с.
- Горелов, И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М.: Высшая школа, 1980. — 195 с.
- Демидов, Д.Г. Нехудожественные источники выявления концептов // Отражение русской ментальности в языке и речи: материалы Всероссийской научно-практической конференции (8−9 апреля 2004 г.). Липецк: Изд-во ЛГПУ, 2004. -С.121−131.
- Денисов, П.Н. О переходе словесного субъективизма в историческую необходимость // Словарь. Прагматика. Текст. М., 1996. — С.115.
- Добджинская, Т. «Мой интимный маленький мир» и поэтические способы концептуализации: Метафора // Слово в тексте и в словаре. Сб.ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна. -М.: Языки русской культуры, 2000. С.529−537.
- Долгих, Н.Г. Теория семантического поля на современном этапе развития семасиологии // Филологические науки. 1973. — № 1. — С. 89−98.
- Жинкин, Н.И. Язык. Речь. Творчество: Исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике. -М.: Лабиринт, 1982.- 368 с.
- Жиркова, М.А. Исповеди в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Дисс.канд. филол. наук. — СПб., 1997. — 197 с.
- Залевская, А.А. Слово в лексиконе человека. Психолингвистическое исследование. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990. — 204 с.
- Залевская, А.А. Когнитивный подход к слову и тексту //Языковоесознание: содержание и функционирование. XIII международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. -М.: РГГУ, 2001.-С.91.
- Звездова, Г. В. Русская именная темпоральность в историческом и функциональном аспектах. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1996. — 144 с.
- Звездова, Г. В. О языковых концептах МИР и ЗАКОН в творчестве А.С. Пушкина и JT.H. Толстого // Русская словесность: теория и практика. Липецк: Редакционно-издательский центр ЛГПУ, 1999. -С. 29−34.
- Землянская, Н.Л. Эстетико-онтологические основания раннего творчества Ф.М. Достоевского. Дисс.канд. филол. наук. Барнаул, 2003.-174 с.
- Иванов, В.В., Топоров, В.Н. Исследования в области славянских древностей. И.: Наука, 1974. — 344 с.
- Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. — 263 с.
- Караулов, Ю.Н. Общая и русская идеография. М.: Наука, 1976. -356 с.
- Караулов, Ю.Н. Структура лексико-семантического поля // Филологические науки. 1972. — № 1. — С. 57−68.
- Караулов, Ю.Н. Константы идиостиля в лексикографическом представлении (из опыта работы над «Словарем языка Достоевского») // Русистика сегодня. 1999. — № 1−2.
- Караулов, Ю.Н. Семантический гештальт ассоциативного поля и образы сознания // Языковое сознание. Содержание и функционирование. М.: Наука, 2000. — С. 107−109.
- Кирпотин, В.Я. Крушение Родиона Раскольникова. М.: Советская Россия, 1970.-С. 120−150.
- Кобозева, И.М. Лингвистическая семантика: Учеб. пособ. М.: Едиториал УРСС, 2000. — 352 с.
- Ковсан, М.Я. «Преступление и наказание»: «все» и «он» // Достоевский: Материалы и исследования. Т.8. Л.: Наука, Ленингр. отд-е, 1988. С.72−86.
- Колесов, В.В. Концепт культуры: образ понятие — символ // Вестник СПб ун-та. Сер. 2. — 1992. — № 3. — с. 19−34.
- Колесов, В.В. «Жизнь происходит от слова.» СПб.: Златоуст, 1999.-368 с.
- Колесов, В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. СПб.: Златоуст, 2000. — 360 с.
- Колесов, В.В. Отражение русского менталитета в слове. Л., 1991. -87 с.
- Колесов, В.В. Семантический синкретизм как категория языка // Вестник ЛГУ. Сер.2: Языкознание. 1991 (а). Вып.2. № 9. С. 44.
- Колесов, В.В. Философия русского слова. СПб.: Златоуст, 2002. С. 51.
- Колесов, В.В. Язык и ментальность. СПб.: Златоуст, 2004. С. 11.
- Колесова, Д.В. Концепт и художественный текст // Материалы XXX межвузовской научно-методической конфереции преподавателей и аспирантов. Вып. 17. Секция «Язык и ментальность» (Романо-германский цикл). 1−17 марта 2001 г. СПб., 2001. — С.16−19.
- Кораблин, В.В. К вопросу о семантических полях // Казахскаяконференция по теории и методике преподавания иностранных языков. Материалы. Алма-Ата, 1971. — С.90−94.
- Кравченко, А.В. Язык и восприятие. Когнитивные аспекты языковой категоризации. Иркутск, 1996.
- Крашенинников, А.Е. Стилистические поля поэтического текста (на материале немецкой поэзии). Дисс.канд. филол. наук. — Магадан, 1997.-197 с.
- Кубрякова, Е.С., Шахнарович, A.M., Сахарный, JI.B. Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи / АН СССР. Ин-т языкознания. М.: Наука, 1991. — 239 с.
- Кубрякова, Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. М.: Наука, 1996. — 653 с.
- Кубрякова, Е.С. Обеспечение речевой деятельности и проблема внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. М.: Наука, 1991.
- Кубрякова, Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: Лингвистика психология — когнитивная наука // Вопросы языкознания, 1994. — № 4. — С. 26−47.
- Кубрякова, Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М.: Наука, 1997.-358 с.
- Кузнецова, А.И. Особенности морфем и морфемной структуры слова в тексте сравнительно с морфемами и морфемной организации слова в словаре // Прикладные аспекты лингвистики. М., 1989. — С. 86 117.
- Кузьмичев, И.К. Лада: Эстетика Киевской Руси. М., 1990. С. 107−111
- Купина, Н.А. Структурно-смысловой анализ художественного произведения: Учебное пособие по спецкурсу. Свердловск: УрГУ, 1981.-92 с.
- Купина, Н.А. Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа. Красноярск: Изд-во Красноярского унта, 1983. — 145 с.
- Левин, Ю.И. О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах // Структурная типология языков. М.: Наука, 1966. — С. 199−215.
- Лещенко, В.В. Принципы организации и структурирования лексико-семантического поля чувственного восприятия в современном русском языке. Автореферат дисс. .канд. филол. наук. — Киев, 1990. -19 с.
- Лихачев, Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М, 1993. — Т.52. — № 1. — С.3−9.
- Лихачев, Д.С. Заметки и наблюдения: из записных книжек разных лет. Л.: Советский писатель. Ленингр. отд-ние, 1989. — 605 с.
- Ломтев, Т.П. Общее и русское языкознание: Избранные работы. -М., 1976. С. 59.
- Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн.2. -М., 1994. С.186−691.
- Лосева, И.Н., Капустин, Н.С., Кирсанова, О.Т., Тахтамышев, В. Г. Библейские имена: люди, мифы, история. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.-608 с.
- Лосский, В.Н. «Мрак» и «свет» в познании Бога // По образу и подобию. -М., 1988. -С.25−177
- Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 57.
- Лосский, Н.О. Достоевский и его христианское миропонимание // Бог и мировое зло. -М., 1994. С.128−129.
- Лосский, Н.О. О природе сатанинской (по Достоевскому) // О Достоевском. М., 1991. С. 298.
- Лотман, Л.М. Внутри мыслящих миров: человек текст -семиосфера — история. — М.: Языки русской культуры, 1996. — 464 с.
- Маклакова, Г. В. «И будуть люди на земли»: (стрижневи слова-образи у романи К. Симонова «Живи и мертви») П Культура слова. -Киев, 1990. Вып. 39. — С. 39−41.
- Маковский, М.М. Рецензия. // Вопросы языкознания. М., 1992. -№ 1.-С. 151−157. -Рец. на книгу: Аникин А. Е. Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. — Новосибирск: Наука, 1992. — 125 с.
- Мамардашвили, М.К. Лекции о Прусте (психологическая типология пути). М.: Ad Marginem, 1995. — 1995. — С.66−68
- Маркелова, Г. Е., Ерохин, В.Н. Язык, языковая личность, текст в социально-функциональном аспекте (И.А. Крылов, М.Е. Салтыков-Щедрин) // Тверской языковой регион в историко-функциональном и лингвогеографическом аспектах. Тверь, 1995. — С. 120−175.
- Мережковский, Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. -М.: Наука, 1995.-С.453−464.
- Мизун, Ю.В., Мизун, Ю.Г. Русь ведическая. М.: «АиФ Принт», 2003.-528 с.
- Минералов, Ю.Н. Теория художественной словесности. М.: ACT, 1999. -360 с.
- Мокиенко, В.М. Образы русской речи: Историко-этимологические и этнолингвистические очерки фразеологии. Л.: Изд-во Ленингр. унта, 1986.-278 с.
- Мочульский, К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: ACT, 1995. -С.363- 364.
- Никитина, С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике: (Автоматическая обработка текста). М.: Наука, 1978. -375 с.
- Никонов, В.А. Имена персонажей // Никонов, В. А. Имя и общество. -М.: Наука, 1974. С.70−85.
- Новиков, Л.А. Семантическое поле как лексическая категория // Теория поля в современном языкознании: Тезисы докл. Ч. 1. — Уфа, 1991.-С. 3−7.
- Новикова, Н.С. Тематическая группа как семантический компонент текста (На примере поля «воля») // Русский язык в национальной школе. -№ 5. М.: Педагогика, 1985. — С.8−13.
- Новикова, Н.С. Семантическое поле обозначений воли в современном русском языке. Дисс. .канд. филол. наук. — М., 1986. -С.32−33.
- Новиков, Л.А. Семантика русского языка. М.: Высш. шк., 1982.272 с.
- Павлова, Н. И. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в школе: Роль композиции в структуре целостного анализа. Дисс. .канд. филол. наук. — Саратов, 2004. — 198 с.
- Павловски, М. Свеча-свечка в поэзии Есенина // Филологические науки. 1998. — № 4. — С.93−95.
- Папина, А.Ф. Текст: его единицы и глобальные категории. М.: УРСС, 2002. — 368 с.
- Пелевина, Н.Ф. Теория значения и опыт построения семантических полей (Значение света и цвета). Дисс.докт. филол. наук. — Л., 1969.- 816 с.
- Полевые структуры в системе языка / З. Д. Попова, И. А. Стернин, Е. И. Беляева и др. Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1989. — 198 с.
- Попова, З.Д., Стернин, И.А. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях. Воронеж, 1999. — 30 с. С.20−22.
- Попова, З.Д. Семантическое пространство языка как категория когнитивной лингвистики // Вестник ВГУ. Сер. 1. Гуманитарные науки. 1996. — № 2. — С. 64−68.
- Попова, З.Д., Стернин, И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. -Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. 191 с.
- Попова, З.Д., Стернин, И.А. Язык и сознание: теоретические разграничения и понятийный аппарат // Язык и национальное сознание. Вопросы теории и методологии. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. С.10−12.
- Постовалова, В.И. Наука о языке в свете идеала цельного знания // Язык и наука конца XX века. М., 1995. — С.342−344.
- Потебня, А.А. Мысль и язык. М.: Лабиринт, 1993. — 300 с.
- Потебня, А.А. Эстетика и поэтика. М.: Искусство, 1976. — 614 с.
- Потебня, А.А. Слово и миф. -М., 1989. С. 200.
- Развина, Г. В. Функционально-семантическое поле условных отношений в русском языке (На материале произведений-текстов современных писателей 80−90-х годов). Автореферат дисс.канд. филол. наук. — Орел, 1996. — 22 с.
- Рисина, О.В. Поэтическая трансформация универсальных смыслов текста на материале русской лирики и басни XIX—XX вв..
- Дисс. .канд. филол. наук. Воронеж, 1996. — С.23.
- Розанов, В.В. Размолвка между Достоевским и Соловьевым // Наше наследие. № 6,1991.
- Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира (Б.А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др.). М.: Наука.-1988.-212 с.
- Ротова, М.С. Лексико-фразеологическое поле обозначений смеха и плача в современном русском языке. Дисс. .канд. филол. наук. -Воронеж, 1984. -146 с.
- Сергеева, Е.В. Особенности семантики лексемы «свет» в религиозно-философском тексте конца 19 начала 20 века // Текст как объект многоаспектного исследования. — СПб.: Ставрополь:
- Pi НУ им. А. И. Грецена: Ставропольский гос. ун-т, 1998. Вып.З. -4.2.-С. 179−186.
- Сергеева, Е.В. Проблема типологии концепта в современной российской лингвистике // Лингвистический и методический аспекты оптимизации обучения русскому языку в вузе. СПб.: СПГУТД, 2005.-С.95.
- Св. Дионисий Ареопагит. Божественные имена // Мистическое богословие. Киев, 1991. — С.13−93.
- Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Р.-на-Дону, 1992.-С.128.
- Смирнов, А.А. Проблемы психологии памяти. М.: Наука, 1966. -С.220−235.
- Соловьев, B.C. Красота в природе // Сочинения в 3-х т. T.l. -М., 1989. -С.33−318.
- Соловьев, B.C. Чтения о Богочеловечестве. Красота в природе // в.
- Соловьев, С.М. Изобразительные средства в творчестве Ф.М. Достоевского: очерки. -М.: Современный писатель, 1979. 457 с.
- Соссюр, Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. — 695 с.
- Стальмахова, Е.А. Философская категория «время» в языке русской поэзии (семантико-стилистический аспект). Дисс.докт. филол. наук. — Брянск, 1998. — С.45.
- Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. -М.: Наука, 2001.-693 с.
- Степанов, Ю.С. Язык и метод: К современной философии языка. -М., 1998.-572 с.
- Стернин, И.А. Концепт и языковая семантика // Связи языковых единиц в системе и реализации. Когнитивный аспект. Вып. 2. -Тамбов: ТГУ, 1999. С. 69−75.
- Стернин, И.А. Концепты и невербальность мышления // Филология и культура. Материалы международной конференции. Тамбов: ТГУ, 1999. С. 69−79.
- Стрельцова, Е.Ю. Лексико-семантическое поле «время» в философской поэзии Испании и Каталонии XVII века. Дисс. .канд. филол. наук. -М., 1995. — С.72.
- Суслова, А.В., Суперанская, А.В. О русских именах. Л.: Лениздат, 1985.-222 с.
- Тарасова И.А. Структура семантического поля в поэтическом идиостиле (на материале поэзии И. Анненского). Дисс. .канд. филол. наук. — Саратов, 1994. — 169 с.
- Телия, В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картинымира // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. -М.: Наука, 1988. С. 173−205.
- Тихомиров, Б.Н. Почему Родион Раскольников? // Русская речь1986, № 2.
- Толстых, Л.И. Смысловые парадигмы в тексте и их лексическое выражение-Автореферат дисс.канд. филол. наук. Л., 1988. — 16 с.
- Топоров, В.Н. Из славянских языковых терминологий: индоевропейские истоки и тенденции развития // Этимология 19 861 987.-М., 1995.-С.З-50.
- Топоров, В.Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными схемами мифологического мышления («Преступление и наказание»)//Топоров, В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М.: Наука, 1989. С.25−93.
- Трубецкой, Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. — 431 с.
- Тураева, З.Я. Лингвистика текста и категория модальности // Вопросы языкознания. 1994. — № 3. — С.105−114.
- Тураева, З.Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика) учебное пособие. -М.: Просвещение, 1986. 127 с.
- Тынянов, Ю.Н. Архаисты и новаторы. Л.: Советский писатель, 1929. -с.27−29.
- Угрюмов, А.А. Русские имена. Вологда, 1970. — С.71−80.
- Уфимцева, А.А. Лексика// Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. — С. 406−436.
- Уфимцева, А.А. Теории семантического поля и возможности их применения при изучении словарного состава языка // Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике. М.: Изд-во АН СССР, 1961. -С.30−63.
- Уфимцева, А.А. Опыт изучения лексики как системы: (На материалеангл. яз.) М: Изд-во АН СССР, 1962. — 287 с.
- Федоров, А.И. Семантическая основа образных средств языка. -Новосибирск: Наука, 1969. 92 с.
- Флоренский, П.А. Сочинения в 4-х т. Т.2. М., 1996. — 570 с.
- Флоренский, П.А. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990. -С.98−596.
- Флоровский, Г. В. Религиозные темы Достоевского // О Достоевском. М., 1991. С. 380−389.
- Фрумкина, P.M. и др. Семантика и категоризация. М.: 1991.
- Фрумкина, P.M. Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца XX века. М., 1995. — С.74−117.
- Ховаев, В.И. Иерархия ассоциативных рядов слов в художественных текстах малого жанра // Структура и семантика текста. Воронеж, 1988. — С.37−45.
- Цивьян, Т.В. Лингвистические основы балканской модели мира. -М.: Наука, 1990.-207 с.
- Цивьян, Т.В. О некоторых способах отражения в языке оппозиций «внутренний / внешний» // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973. — С.242−261.
- Черепанова, О.А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983.-169 с.
- Чернейко, Л.О. Гештальтная структура абстрактного имени // Филологические науки. 1995. — № 4. — С.73−83.
- Чернейко, Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. -М., 1997.-320 с.
- Чернухина, И.Я. Очерк стилистики художественного прозаического текста. Воронеж: ВГУ, 1977. — 208 с.
- Чичерин, А.В. Поэтический строй языка в романах Достоевского // Творчество Ф. М. Достоевского. М.: Наука, 1959. С.52−420.
- Шевченко, Н.В. Основы лингвистики текста: учеб. пособие. М.: Приориздат., 2003. — 160 с.
- Шкуркина, Ю.А. О концептуализации понятия «свет» в русском языковом сознании // Семантика языковых единиц и категорий в диахронии. Калининград: Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2001. -С.167−173.
- Шмелев, Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М.: Просвещение, 1964. — С.130−137.
- Щапов, А.П. Сочинения: В 3-х тт. Т.1. СПб, 1906. С. 93.
- Щур, Г. С. Теория поля в лингвистике. М.: Наука, 1974. — 225 с.
- Юрков, Е.Е. Лексическая семантика и поэтическая система автора (лексико-семантические аспекты анализа цикла «Родина» А. Блока). Автореферат дисс. .канд. филол. наук. — Л., 1986. — 15 с.
- Ягафарова, Г. А. «Текстообразующая роль концепта работа в повести В. Маканина „Утрата“ // Язык и межкультурные коммуникации: материалы международной конференции. Уфа: Изд-во БГПУ, 2002. — С.164−166.
- Ягубова, М.А. Структура лексико-семантического поля „оценка“ в разговорной речи II Актуальные проблемы филологии в вузе и школе. -Тверь, 1992.-С. 91−92.
- Яковлева, Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира:
- Модели пространства, времени и восприятия). М.: Гнозис, 1994. -343 с.
- Александрова, З.Е. Словарь синонимов русского языка. Под ред. Л. А. Чешко. -М.: Русский язык, 1975 (АСС)
- Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская энциклопедия, 1966. — 608 с.
- Библейская энциклопедия (путеводитель по Библии). М.: „Рос. библ. об-во“, 2002. — 352 с.
- Библейская энциклопедия (труд и издание Архимандрита Никифора). Репринтное издание. М.: Терра, 1990
- Бидерманн, Г. Энциклопедия символов. -М.: Республика, 1996. -335 с.
- Власова, М. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. СПб., 2000. -672 с.
- Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.-М.: Русский язык, 2000.
- Краткий словарь когнитивных терминов / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина М.: МГУ им. М. В. Ломоносова. Филологический факультет, 1996.-245 с.
- Купер, Дж. Нциклопедия символов. М.: Республика, 1995. — 401 с.
- Лингвистический энциклопедический словарь / Науч. ред. совет, изд-ва „Сов. энцикл.“, Ин-т языкознания АН СССР- гл. ред. В. В. Ярцева. М.: Советсткая энциклопедия, 1990. — 685 с. (ЭС)
- Новая Толковая Библия: В 12 томах. Т.1. Л., 1989. (НТБ).
- Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2 т. Репринтное издание М, 1992.
- Полный церковно-славянский словарь. М., 1993. (ПЦСС).
- Преображенский, А. Этимологический словарь русского языка. -М., 1957. (ПЭС).
- Русский ассоциативный словарь. В 2 т. Т.1. От стимула к реакции. Под ред. Ю. Н. Караулова. М.: ООО „Изд-во Астрель“, „АСТ“, 2002. — 784 с.
- Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Изд. 2-е, испр. и доп. -М.: „Международные отношения“», 2002.
- Словарь русского языка: В 4-х т. Под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981−1984. (MAC).
- Словарь синонимов русского языка: В 2 т. Авт. введ. и главн. ред. А. П. Евгеньева. Л.: Наука, 1970−1971. (ЕСС)
- Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995.-416 с.
- Словарь библейского богословия. М., 1990 (СББ)
- Словарь русского языка 11−17 вв. Вып. 1−25. М.: Наука, 1975−200. (С 11−17 вв.)
- Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта / Российская академия наук. Ин-т рус. Яз. Им. В.В. Виноградова- Гл. ред. Ю. Н. Караулов. В 2 т. Т.1. М.: Азбуковник, 2001. — 442 с. (СЯД)
- Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. В 3 т. М.: Русский язык, 1958. (СДЯ)
- Тихонов, А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2 т. -М.: Русский язык, 1990
- Толковый словарь русского языка: в 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова.
- М.: Русский язык, 1947−1949. (СУ).
- Тресиддер, Д. Словарь символов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.
- Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка. В 4 т. М.: Советсткая энциклопедия, 193 5−1940.
- Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.: Прогресс, 1986- 1987.(ФЭС)
- Христианство: Энциклопедический словарь. В 3 т. -М: «Большая российск. Энциклопедия», 1993−1995.
- Цыганенко, Г. П. Этимологический словарь русского языка. Изд-е 2-ое. — Киев: Рад. школа, 1989. (ЦЭС)
- Черных, П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2-х т. М.: Русский язык, 1999. (ЧЭС)
- Шанский, Н.М. и др. Краткий этимологический словарь. М., 1994. (ШЭС)
- Шейнина, Е.Я. Энциклопедия символов. Москва: «АСТ», Харьков: «Торсинг», 2002. — 591 с.
- Шипов, Я.А. Православный словарь.-М.: Современник, 1998.-271 с.