Гавриил романович державин (1743-1816)
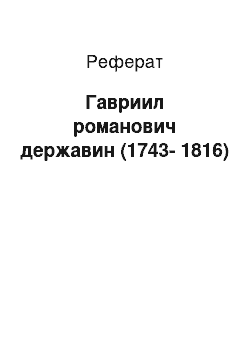
Правильная" строка «Воспитан музами и ими научен» не нарушила бы внутреннего строения стиха (метра), хотя б прибавила бы лишнюю стопу. Но вот другой пример, где «выравнивание» грамматики внешне ничего бы не изменило: «Между тщеславья и пороком» («Фелица»). Правка теоретически допустима и на следующем характерном державинском фрагменте: «Всему дающу жизнь и душу / И управляющую всем» («Изображение… Читать ещё >
Гавриил романович державин (1743-1816) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Гавриил Романович Державин — поэт-новатор, крупнейший художник XVIH в. Жизненный путь Державина — жизнь бескомпромиссного мужественного человека, крупного государственного деятеля — необходимое дополнение и обрамление его поэзии, всегда таящей много «автобиографических» штрихов. Это рано осиротевший сын бедного казанского дворянина, который учился только в местной гимназии, а затем всю жизнь занимался самообразованием; с восемнадцати лет служил рядовым, а потом капралом Преображенского полка, живя в солдатской казарме; начал писать, пытаясь учиться у Ломоносова и Сумарокова по их стихам, но предпочитая им стихи своего сослуживца князя Ф. Козловского (приятеля молодых лет Д. Фонвизина); впоследствии Державин — дважды губернатор (в Петрозаводске и Тамбове), сенатор, министр юстиции.
Первая книга Державина «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года», как и многолетние его стихотворные публикации в журналах, не привлекали заметного читательского внимания, хотя среди опубликованного уже были настоящие шедевры, подобные стихотворению «На рождение в Севере порфирородного отрока» (1779):
С белыми Борей власами И с седою бородой, Потрясая небесами, Облака сжимал рукой; Сыпал инеи пушисты И метели воздымал, Налагая цепи льдисты, Быстры воды оковал.
Вся природа содрогала От лихого старика;
Землю в камень претворяла Хладная его рука;
Убегали звери в норы, Рыбы крылись в глубинах, Петь не смели птичек хоры. Пчелы прятались в дуплах; Засыпали нимфы с скуки Средь пещер и камышей, Согревать сатиры руки Собирались вкруг огней.
В это время столь холодно, Как Борей был разъярен, Отроча порфирородно В царстве Северном рожден[1].
Поэт непринужденно переместил в русскую северную современность персонажей греческих мифов, говоря о них как о реальных существах, присутствующих при рождении русского царевича (будущего Александра I), да еще и вводя зримые картинные эпизоды их жизни («Засыпали нимфы с скуки» и т. п.). Впоследствии Державин много раз будет изумлять читателя аналогичными своими (выглядящими в его произведениях совершенно органично и естественно) бросками, так сказать, «реалистической фантазии». Звукопись в его текстах, подобных этому, стала чрезвычайно интенсивной, активно соучаствующей в рождении и структурном построении фразы, стиха и даже строфы («С белыми Борей власами и с седою бородой, потрясая небесами…», «Убегали звери в норы, рыбы крылись…», «Согревать сатиры руки собирались…» и т. п.). Она часто приобретает характер художественного «корнесловия», как в случае «Борея… с бородой».
Державина, однако, все не замечали. Так нередко бывает с крупными своеобразными талантами, произведения которых «инерционно» воспринимают по сложившимся привычным, стандартным меркам, не понимая их особенностей и не умея заглянуть вглубь. Но вот в 1783 г. княгиня Е. Дашкова показала своей подруге Екатерине II опубликованную несколькими месяцами ранее оду «Фелица» (1782). Последовала личная аудиенция, и вскоре Державин стал всероссийски знаменит.
Вместо «государыни императрицы» из традиционной парадной оды он написал в «Фелице» напоённый искренним восхищением образ благородной женщины и идеальной правительницы, которая, как небо от земли, отличается от своего человеческого окружения, неизмеримо превосходя его духовно:
Мурзам твоим не подражая, Почасту ходишь ты пешком, И пища самая простая Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем, Читаешь, пишешь пред налоем И всем из твоего пера Блаженство смертным проливаешь;
Подобно в карты не играешь, Как я, от утра до утра.
Не слишком любишь маскарады, А в клуб не ступишь и ногой;
Храня обычаи, обряды, Не донкишотствуешь собой;
Коня парнасска не седлаешь, К духам в собранье не въезжаешь, Не ходишь с трона на Восток,—.
Но кротости ходя стезею, Благотворящею душою Полезных дней проводишь ток.
Помимотого, что Фелица, не в пример своим придворным, ведет самый простой образ жизни, проходящий в неустанных трудах на благо всех смертных, она еще чужда обычных для светских людей увлечений — в том числе, как специально подчеркивает Державин, чужда увлечений оккультными занятиями, вошедшими тогда в широкую моду («К духам в собранье не въезжаешь, не ходишь с трона на восток»). Как бы говоря о себе самом, державинский Мурза описывает далее противопоставляемый жизни Фелицы «развратный» быт ее вельмож:
А я, проспавши до полудни, Курю табак и кофе пью;
Преобращая в праздник будни, Кружу в химерах мысль мою:
То плен от персов похищаю.
То стрелы к туркам обращаю;
То, возмечтав, что я султан, Вселенну устрашаю взглядом;
То вдруг, прельщаяся нарядом, Лечу к портному по кафтан.
Однако если бы ода ограничивалась сатирой и дидактикой, она была бы просто политическим фельетоном, давно утратившим актуальность и, скорее всего, заслуженно забытым. «Фелица» же — замечательное произведение словесного искусства. Изобразительное мастерство автора, его «словесная живопись» поражает и сегодня, более двух веков спустя:
Или в пиру я пребогатом, Где праздник для меня дают, Где блещет стол сребром и златом, Где тысячи различных блюд:
Там славный окорок вестфальской, Там звенья рыбы астраханской, Там плов и пироги стоят;
Шампанским вафли запиваю И все на свете забываю Средь вин, сластей и аромат.
Или средь рощицы прекрасной В беседке, где фонтан шумит, При звоне арфы сладкогласной, Где ветерок едва дышит, Где все мне роскошь представляет, К утехам мысли уловляет, Томит и оживляет кровь, На бархатном диване лежа, Младой девицы чувства нежа, Вливаю в сердце ей любовь.
В приведенных цитатах есть пример державинских ассонансов (вестфАльСКОЙ/АстраХАнСКОЙ), сдвигов словесного ударения в рифменной позиции (шумИТ/дышИТ). «Фелица» выглядела весьма необычно, вызывая восторг у одних и непонимание у других. Г. Р. Державин немедленно получил, например, весьма характерные замечания на свое двустишие:
Да дел твоих в потомстве звуки, Как в небе звезды, возблестят!
Критик, скрывшийся под псевдонимом «Невежда», писал об этих строках: «Звуки блистать не могут: звездам свойственно блестеть, а звукам греметь». «Невежда» учитывает, что «неправильное» сочетание слов, им отмеченное, по замыслу поэта, носит метафорический характер. Но он этим не обескуражен: «Я думаю, что все метафоры должны быть основаны на возможности действительной или воображаемой».
Державин ответил «Невежде» заметкой «Возражения неизвестному критику», где подчеркивал: «В натуральном смысле конечно звезды блистают, а звуки звучат, но в витиеватом или фигуральном, а особливо стихотворцы в перенесении одного свойства к другому, несходному или совсем противному, то есть в метафорах обыкновенно говорят: вместо славные дела отличаются, славные дела блистают, красота сияет, пламень жрет, земля стонет, хотя первый лучей, второй зева, а третья гласу не имеют, подобно как брега рук; а господин Ломоносов написал: брега Невы руками плещут» (VII, 508)'.
Тем не менее упреки в «неровности языка» будут впоследствии сопровождать творческий путь Державина. «Неровность языка составляет одно из загадочных явлений в нашем поэте», — указывал крупнейший исследователь его творчества (единолично подготовивший и дважды издавший во второй половине XIX в. его девятитомное собрание сочинений, по сей день уникальное) академик Я. К. Грот[2][3].
Державиным были написаны как до «Фелицы», так и впоследствии также другие «екатерининские» оды — «На отсутствие Е. И. В. в Белоруссию», «Благодарность Фелице», «Видение Мурзы», «Изображение Фелицы» (где вслед за Ломоносовым парафразировано стихотворение Анакреона с просьбой к живописцу изобразить любимую — у Державина это обращение к Рафаэлю с просьбой изобразить ему Фелицу) и др. Последняя из од этого цикла, «Развалины», создана уже после смерти императрицы и оплакивает ушедшую с ней в прошлое эпоху.
В автобиографических «Записках» Державин вспоминает, что императрица побуждала его писать в свою честь и другие произведения, но он не чувствовал вдохновения и не мог:
«Пожеланию Императрицы… чтоб Державин продолжал писать в честь ея более в роде Фелицы, хотя дал он он в том слово, но не мог онаго сдержать по причине разных придворных каверз, коими его безпрестанно раздражали: не мог он воспламенить так своего духа, чтоб поддерживать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз ни принимался, сидя по неделе для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен: все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства»[4].
К числу лучших его од философского характера относятся «На смерть князя Мещерского» (1779), «На Счастие» (1789), «Водопад» (1791—1794) и др. Особый обширный цикл составляют духовные оды Державина, из которых наиболее известна ода «Бог» (1780—1784). Батальные оды писались поэтом на протяжении всей жизни. Русско-турецкие войны дали произведения, подобные «Осени во время осады Очакова» (1788), войны с Наполеоном (1805—1814) — «На прогнание французов из Отечества», «Атаману и войску Донскому», «На смерть фельдмаршала князя Смоленского», «Персей и Андромеда» и др. «Суворовские» оды составляют отдельный подраздел среди батальных од Державина.
Ода «На взятие Измаила» (1790) особым порядком связана с «суворовским циклом».
Она начинается блестящим описанием измаильского штурма, который образно представлен как предельный и ужаснейший из мировых катаклизмов, в сравнении с коим ничто — извержения вулканов и землетрясения:
Везувий пламя изрыгает, Столп огненный во тьме стоит, Багрово зарево зияет, Дым черный клубом вверх летит;
Краснеет понт, ревет гром ярый, Ударам вслед звучат удары;
Дрожит земля, дождь искр течет;
Клокочут реки рдяной лавы,—.
О росс! таков твой образ славы, Что зрел под Измаилом свет!
Данная первая строфа оды как бы портретирует одический стиль крупнейшего державинского предшественника М. В. Ломоносова (можно проследить интонационные пересечения, например, с «Одой на взятие Хотина»), Этим приемом читатель сразу вводится в атмосферу уже знакомых ему поэтических батальных полотен, настраивается на присущие им смысловые обертона и повороты. Наконец в предпоследнем стихе звучит неотразимо удачно завершающее такую исходную «настройку» читатательского восприятия обращение к образу «росса» (поныне ассоциирующемуся прежде всего с ломоносовским поэтическим слогом), а в последнем стихе конкретизируется место действия: Измаил, то есть мощная, новейшая, считавшаяся неприступной крепость на берегу Дуная, которую туркам выстроили французские фортификаторы.
Русские войска, в полном молчании двинувшиеся на штурм этой твердыни, уподобляются непреодолимым силам природы и даже явлениям сверхъестественным (двинувшимся вперед горам):
Как воды, с гор весной в долину Низвержась, пенятся, ревут, Волнами, льдом трясут плотину, —.
К твердыням россы так текут.
Ничто им путь не воспящает;
Смертей ли бледных полк встречает Иль ад скрежещет зевом к ним,—.
Идут, как в тучах скрыты громы, Как двигнуты, безмолвны холмы;
Под ними стон, — за ними дым.
Далее слово «идут» становится своеобразным рефреном и, повторяясь от раза к разу, так что обозначаемое этим глаголом действие постепенно обретает психологически ощутимую неодолимую силу:
Идут в молчании глубоком, Во мрачной, страшной тишине, Собой пренебрегают, роком;
Зарница только в вышине По их оружию играет;
И только их душа сияет, Когда на бой, на смерть идет.
Уж блещут молнии крылами, Уж осыпаются громами;
Они молчат — идут вперед.
Постоянно находящиеся в поле зрения поэта герои оды — эти русские воины. Возглавляет их «свыше вдохновенный» пастырь, который «пред ними идет со крестом». В ней упоминается и некий «вождь», по велению которого идут на штурм россы. Однако имя Суворова не названо (как, впрочем, и имя главнокомандующего Потемкина).
В оде «На взятие Измаила» поэт ясно выражает главное для него как православного человека и патриота Родины: победа под Измаилом — не просто крупная военная удача. Это одновременно победа во многовековом противостоянии мира христианства и мира ислама. Кроме того, это символ возрожденного величия Отечества:
Услышь, услышь, о ты, вселенна!
Победу смертных выше сил;
Внимай, Европа удивленна, Каков сей россов подвиг был.
Языки, знайте, вразумляйтесь, В надменных мыслях содрогайтесь;
Уверьтесь сим, что с нами Бог;
Уверьтесь, что его рукою Один попрет вас росс войною, Коль встать из бездны зол возмог!
Именно в данной оде Державин делает далее развернутое историческое отступление, напоминая, как некогда «три века» страшный сон «держал» росса:
Он спит! — и насекомы гады Румяный потемняют зрак, Войны опустошают грады, Раздоры пожирают злак;
Чуть зрится блеск его короны, Страдает вера и законы, И ты, к отечеству любовь!
Как зверь, его Батый рвет гладный, Как змей, сосет лжецарь коварный:
Повсюду пролилася кровь!
Лежал он во своей печали, Как темная в пустыне ночь;
Враги его рукоплескали, Друзья не мыслили помочь, Соседи грабежом алкали;
Князья, бояра в неге спали И ползали в пыли, как червь, —.
Но Бог, но дух его великий Сотряс с него беды толики, Расторгнул лев железну вервь!
Три века владычеста ордынцев, годы владычества «лжецаря», Смутное время кончились, русский народ поднялся во весь рост:
Он сильны орды пхнул ногою, Края азийски потряслись;
Упали царствы под рукою, Цари, царицы в плен влеклись…
Здесь, как нетрудно понять, упоминается о присоединении к России мусульманского Казанского царства (ставшеготемой «Россияды» Хераскова) и замирении северного Кавказа, а также крымских татар. Далее Державин переходит к событиям недавнего (для людей его времени) прошлого — победе над потрясшим Европу шведским королем Карлом XII:
И победителей разитель, Монархий света разрушитель Простерся под его пятой:
В Европе грады брал, тряс троны, Свергал царей, давал короны Могущею своей рукой.
Этот ряд великих государственных деяний и военных подвигов венчает взятие Измаила, которое в итоге предстает вершинным событием в деле возрождения русского народа и государства как носителей православной идеи, защитников православия в мире. Обращаясь к католическим народам и государствам, поэт утверждает: «…росс рожден судьбою / От варварских хранить вас уз»:
Отмстить крестовые походы, Очистить иордански воды, Священный гроб освободить, Афинам возвратить Афину, Град Константинов Константину И мир Афету водворить.
Тем самым смысловое развитие произведения приводит к тому, что героем оды оказывается не только русский солдат, но и вообще руский православный народ, олицетворяемый воинами Суворова. Возвысить над ними в качестве главного героя какое-либо единичное лицо (пусть и командовавшего штурмом полководца) было бы даже ошибочно.
Так по ряду объективных оснований, среди которых и вышеназванные, поэт в данной оде уклонился от конкретизации образов пастыря и вождя, как и вообще от их развития — лишь обозначив их в начале произведения.
Надо добавить, что Суворов был в это время для Державина еще фигурой достаточно абстрактной. Сблизился и подружился с ним поэт несколько позднее. Его победы в польском походе стали темой произведений «На взятие Праги» и «На взятие Варшавы», итальянский и швейцарский походы воспеты в одах «На победы в Италии» и «На переход Альпийских гор». Стихотворение «Снигирь», написанное на смерть Суворова, венчает этот цикл.
Державин, придя с похорон, услышал, как его ручной дрессированный снегирь насвистывает военную мелодию:
Что ты заводишь песню военну Флейте подобно, милый Снигирь?
С кем мы пойдем войной на гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.
Особый нервный ритм произведения с систематическими пропусками безударных слогов (логаэд — упорядоченный дольник) целиком соответствует теме. Образ Суворова создается буквально несколькими поэтически гениальными контрастными штрихами:
Кто перед ратью будет, пылая, Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя, Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов С горстью россиян все побеждать?
Суворов, внешне незаметный, маленький, скрывавший шутками и чудачествами ранимость и застенчивость, за строптивость и независимость всю жизнь третируемый начальниками, не знатный и небогатый человек, — не раз побеждал целые армии с горстью своих «чудо-богатырей», был величайшим полководцем и военным теоретиком. Державин необыкновенно прозорливо понял, какая колосссальная потеря постигла Отечество:
Быть везде первым в мужестве строгом;
Шутками зависть, злобу штыком, Рок низлагать молитвой и Богом;
Скиптры давая, зваться рабом;
Доблестей быв страдалец единых,.
Жить для царей, себя изнурять?
Нет теперь мужа в свете столь славна;
Полно петь песню военну, Снигирь!
Бранна музыка днесь не забавна, Слышен отвеюду томный вой лир;
Львиного сердца, крыльев орлиных Нет уже с нами! — что воевать?
Прошло всего пять лет, и в октябре 1805 г. под Аустерлицем отсутствие великого полководца обернулось великой трагедией: бездарные вояки во главе в возжаждавшим лавров стратега Александром I погубили многие тысячи его «чудо-богатырей». .
В своем «Памятнике» (стихотворении, которое представляет собой парафразис стихотворения Горация и было впоследствии в свою очередь парафразировано Пушкиным) Державин, между прочим, говорит:
Слух прбйдет обо мне от Белых вод до Черных, Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;
Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из безвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о Боге И истину царям с улыбкой говорить.
Религиозно-философская (духовная) проблематика упомянута здесь сразу за «фелицианскими» сюжетами. Духовные оды действительно составляют целый мощный пласт в державинском наследии. В любой однотомник Державина включается лучшее его произведение этого рода — ода «Бог». Она поражает литературным мастерством автора.
В одном остроумном исследовательском эксперименте академика Г. В. Степанова сопоставлялись несколько текстовых фрагментов, написанных разными людьми (Ч. Дарвином, Б. Паскалем, Дж. Пико делла Мирандолой и Г. Державиным) и выражающих — если Судить отвлеченно — «одну и туже» идею[5]. На фоне стройных силлогистических построений трех ученых высказывание поэта, где полностью отсутствуют причинно-следственные связи, «держится особняком». Кроме того, державинская цитата удивительно компактна: она состоит всего из восьми слов (причем одно из этих восьми слов — местоимение «я» — повторяется четырежды). Вот эта цитата:
Я царь — я раб, я червь — я бог.
Несмотря на свою предельную краткость, данный фрагмент, несомненно, выдерживает «груз» сложной философской идеи. Выдерживает — благодаря особенностям своей внутренней формы. Иными словами — благодаря индивидуально-стилевому преобразованию, личной художественной интерпретации Державиным-стилистом философской идеи.
Державиным как поэтом здесь практически воплощен, «опредмечен» семантический феномен, который он сам именовал «перескоком»: «Перескоком называется то, что показывает выпуск или промежуток между понятиями, когда не видно между ими надлежащего сопряжения» («Рассуждение о лирической поэзии или об оде», VII, 554). В данном случае поэт путем «перескока» столкнул вместе очень разные понятия. Этот пример заставляет вспомнить, как почти веком ранее деятели барокко рекомендовали художникам сводить «воедино» «отдаленнейшие предметы и явления»[6]. (Э. Тезауро приводил любопытное сопоставление ученой фразы: «звезды являются наиболее плотными и непрозрачными частями эфирного пространства, которые, отражая лучи солнца, становятся светящимися», — и поэтического ее «переложения»: «звезды — это зеркала эфира».)[7] Именно образность и ассоциативность мышления эффективно заменяют формальную логику, позволяя достичь максимума краткости.
Но обратим внимание: весь державинский образ внешне напоминает не что иное, как логическую антиномию'. Мы не впадаем в противоречие. Это действительно, внешнее впечатление (достигаемое простыми синтаксическими средствами); на самом деле царь и раб, червь и бог суть разноплановые понятия; по смыслу своему эти пары слов логической антиномии не образуют (ср.: царь — подданный, господин — раб, Бог — творение Божие и т. д.). Державиным-стилистом создан художественный образ антиномии — поэтическая внутренняя форма, где в качестве внешней формы остроумно применен «облик» логически выраженной идеи. Создание этого «образа идеи» («идеи идеи») диктовалось поэту, конечно, не соображениями технической «виртуозности». Видимо, «образ антиномии» имеет здесь конкретную и сложную философскую мотивировку. Воспользуемся в целях ее уяснения суждением мыслителя, которому были внутренне близки и хорошо известны конфессиональные идеи и символы, сродные тем, что отразились в державинской оде «Бог». Рассмотрев противоположные категории «Бога» и его «твари», «Истины» и «истины», этот православный мыслитель (П. А. Флоренский) заключает: «Тварь мятется и кружится в бурных порывах Времени; истина же должна пребывать. Тварьрождается и умирает, и поколения сменяются поколениями: истина же должна быть нетленной. Для рассудка истина есть противоречие, и это противоречие делается явным, лишь только истина получает словесную формулировку (ср. „словесную формулировку“ державинского образа. — /О. Л/.)… Тезис и антитезис вместе образуют выражение истины. Другими словами, истина есть антиномия, и не может не быть таковою»[8].
Если Державину было свойственно сходное ощущение (разумеется, чисто интуитивное) антиномичности истины (а это очень вероятно!), то, следовательно, он в «Боге» органично совместил смысл «исходной» (религиозно-философской) идеи и способ ее индивидуально-стилевого преобразования, художественно «изобразив» словесную антиномию.
Дать вместо силлогизма как такового образ силлогизма — это глубоко органично для искусства. В данном случае впечатляет филигранность державинской работы и глубокая внутренняя мотивированность его приемов.
Среди других духовных од Державина следует указать на несколько произведений с названием «Молитва», оды «На смерть князя Мещерского», «Величество Божие», «Христос», «Счастливое семейство»,
«Властителям и судиям», «Победителю», «Буря», «Доказательство творческого бытия» и др.[9]
Державину принадлежат также многие прекрасные лирические стихотворения — «Памятник», «Русскиедевушки», «Весна», «Лебедь» и др. Он пробовал писать и песни. Полонез на его стихи «Гром победы раздавайся!» впоследствии играл роль русского гимнадо 1831 г., когда композитор Львов написал на стихи В. А. Жуковского гимн «Боже, царя храни!».
И. И. Дмитриев вспоминает о Державине:
«Везде и непрестанно внимание его обращено было к поэзии. Часто я заставал его стоявшим неподвижно против окна и устремившим глаза свои к небу. «Что вы думаете?» — однажды спросил я. «Любуюсь вечерними облаками», — отвечал он. И чрез некоторое время после того вышли стихи «К дому, любящему учение» (к семейству графа А. С. Строганова), в которых он впервые назвал облака краезлатыми. В другой раз заметил я, что он за обедом смотрит на разварную щуку и что-то шепчет; спрашиваю тому причину. «А вот я думаю, — сказал он, — что если бы случилось мне приглашать в стихах кого-нибудь к обеду, то при исчислении блюд, какими хозяин намерен потчевать, можно бы сказать, что будет и щука с голубым пером». И мы чрез год или два услышали этот стих в его послании к князю Александру Андреевичу Безбородке.
Голова его была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих его поэтических произведений".
Эти слова совершенно справедливы. Державинская метафорика поразительна. Вспомним хотя бы, как говорит он о движении мачтовых парусных судов русского флота в оде «На взятие Измаила»:
Уже в Эвксине с полунощи Меж вод и звезд лежит туман, Под ним плывут дремучи рощи…
«Алмазна сыплется гора / С высот четыремя скалами» в его оде «Водопад»; Зевес в «Рождении Красоты» «курчавой головой / Покачав, шатнул всем небом, / Адом, морем и землей»; «Орел, по высоте паря, / Уж солнце зрит в лучах полдневных» в оде «Вельможа». .
Суворов в послании «Атаману и войску Донскому» мимоходом рисуется так:
Неужто Альпы в мире шашка?
Там молньи Павла видел галл;
На кляче белая рубашка Не раз его в усы щелкал…
Переходя, таким образом, к теме державинского словесно-текстового литературного мастерства, его индивидуального стиля, нельзя опять не вспомнить Я. К. Грота. Сталкиваясь у поэта с «неровностью языка», Грот все же без тени сомнения усматривает в ней пусть и непонятное, но индивидуально-авторское волеизъявление. По его словам Державин «между прочим:
1) отделяет определительное от определяемого то местоимением, то союзом, то даже сказуемым, или и тем и другим вместе:
Как по челу власы ты рассыпаешь черны.
И понт как голубой пронзает звездный луч.
2) ставит подлежащее между членами сказуемого или дополнения:
Согревать сатиры руки собирались.
Иногда словорасположение у Державина так запутано, что затемняет или искажает смысл, напр. :
Ужасный зверь Стремит в свои вод реки трубы" («Фонарь». — Ю. М.)
(IX, 353).
Не такое уж моментальное занятие — расшифровка последней, особенно диковинной конструкции, подразумевающей: «кит стремит реки вод в свои трубы»:
Но тут ужасный зверь всплывает К нему из бездн:
Стремит в свои вод реки трубы И как серпы занес уж зубы…
Исчезнь! Исчез.
Фонарь, 1804.
Самое любопытное, что Державин, несомненно, мог очень легко прояснить смысл, сказав: «Стремит вод реки в свои трубы».
Мог бы, но, как видим, не захотел… Допустим, что здесь простой недосмотр автора. Но невозможно понять все другие столь же сложные державинские инверсии как результат его невнимания к слогу. Напрашиваются два объяснения. Первое: поэт считал словопорядок абсолютно свободным. Второе: он руководствовался какими-то, пока не выясненными для данного конкретного случая, «правилами» образно-художественного смыслового развития.
Уже упоминалось (в разделе о литературном барокко) о литературоведческих попытках истолковывать странный словопорядок некоторых поэтов XVIII в. подражанием синтакису серебряной латыни. Это интересная, но недоказанная гипотеза применительно к филологу Тредиаковскому. Но куда труднее заподозрить в зависимости от иноязычных влияний слог Державина. Этот поэт, об особом своеобразии слога которого в один голос говорят современники и ближайшие потомки, в силу объективных «биографических» причин вряд ли был в годы творческого становления особенно сведущ в тонкостях латинского синтаксиса той или иной эпохи. С немецким, надо признать, его отношения складывались иначе. Державин начал учить этот язык в Казани с помощью малообразованного ссыльного немца, говорил на нем, впоследствии свободно читал по-немецки и как поэт много переводил с этого языка. Но его «не знающая границ свобода в словорасположении»1 имеет, видимо, отнюдь не «германскую» природу.
АкадемикЯ. К. Гротжилитворилдаженаменьшей исторической дистанции от жизни и творческой деятельности Державина, чем та, на которую отстоят, например, наши современники от серебряного века. И та и другая дистанции исторически невелики. В силу исторической близости Грот был способен к пониманию сути литературных явлений державинского времени приблизительно в той же мере, в какой мы можем понимать стилевые явления, относящиеся, например, к 10−20-м гг. XX в. (творчество Маяковского, Хлебникова, Есенина и т. д.). Он в совершенстве знал немецкий язык. Наконец, Грот обладал глубокой и разносторонней филологической эрудицией; был в XIX в. одним из крупнейших специалистов по Державину[10][11]. Тем не менее в его работах не говорится как о чем-то очевидном ни о латинском, ни о немецком происхождении державинской синтаксической «свободы»; данная идея не посещает его и в отношении поэтических соратников Державина, его друзей (Капниста, Львова, Дмитриева и др.); последние неизменно характеризуются Гротом как своего рода «редакторы» державинской поэзии, не раз пытавшиеся ратовать за «прояснение» и «исправление» им своего слога, отнюдь не вызывавшего у них «латино-немецких» — авторитетных — ассоциаций. Державин в данном отношении для Грота загадочен, и последний говорит об этом откровенно.
Рассмотрим теперь сами другие наиболее показательные случаи инверсий в слоге Державина.
Начните ж Бога вы, начните, О горды познавать умы!
Уповающему на свою силу, 1785.
Бросается в глаза несовпадение синтаксических связей с логико-смысловыми («о гордые умы, начните же познавать Бога»). Причинно-следственные отношения во фразе-двустишии практически сняты. Слова присоединяются друг к другу так, словно автор ассоциирует, не зная, заранее, куда его «занесет» после каждого следующего слова. Однако решить, есть ли некая скрытая система в таком ассоциативном словоприсоединении, на основе одного примера, разумеется, нельзя.
Лежат поверженные царства Мятежною твоей рукой…
На коварство французского возмущения, 1790.
Первый стих по прочтении кажется безупречным, но формально-синтаксическое присоединение к нему второго «коверкает» стройно составившееся «Лежат поверженные царства». Оно меняет и картину двустишия как целого. «Поверженные» вдруг оказались как бы вырваны «с мясом»; «лежат» силой притиснуто к «царства»; «поверженные» силятся вместиться во второй стих («лежат царства, поверженные мятежною твоей рукой»). Синтаксис, поддержанный ритмом, оказывается в противоречии с содержанием фразы как языковой единицы. Но слова, поставленные «не на то» место, будучи разобщены собственно синтаксически, образовали вполне реальные связи иного типа — ассоциативного. Ассоциации не дают фразе обессмыслиться, «развалиться»; они как бы незримо перестроили ее изнутри. Тем самым произошло «приращение», а точнее — художественное преобразование общеязыкового смысла. Это не просто смысл фразы — это семантика поэтического двустишия. Деление на стихи выступает здесь столь же важным регулятором, что и в первом примере: первый стих создает смысловую инерцию, а присоединение второго спонтанно перестраивает семантические отношения, создавая ассоциативное переплетение («по вертикали», «по диагонали», «по удаленности», «по близости» и т. д.).
Рвут везде их лавры длани.
Хор I из Потемкинского праздника
Снова языковой синтаксис семантически дезориентирует читателя: «их лавры» — то есть «лавры их рвут»; это озадачивает; но концевое слово стиха оказывается восстановителем логики: оказывается, «их длани рвут везде лавры». Опять незримая перестройка стиха как семантической целостности благодаря ассоциативным связям между смыслом синтаксически «разведенных», не связанных лингвистически слов.
Себя всех счастьем веселил Лебедь, 1804.
«Себя всех» — сочетание, где оба компонента, благодаря своеобразию синтаксиса, «претендуют» на равноправную связь со «счастьем», «веселил». Отсюда эффект двойного понимания, которому сопутствует, впрочем, спонтанное осознание того, какое же понимание верное.
Констатируя подобные «нарушения» словопорядка Державиным, необходимо указать на главное: инверсии являются в его стихах опять же результатом специальной стилевой работы. В первоначальных вариантах словопорядок у Державина бывает порою заметно правильнее, чем в окончательной редакции. Так, финал стихотворения «К царевичу Хлору» первоначально выглядел почти не инверсированным:
Когда ж на нас где подкупная, Глаза сощуря, зависть, злость Свой пустит яд, — простим, вздыхая:
Не прейдут Ариманов мост.
Эта стихотворная фраза с ясной логической идеей подвергнута, однако, поэтом саморедактированию, в результате которого она была насыщена эпитетами и приобрела «барочную» ассоциативную усложненность, воплощенную в синтаксисе:
Когда же подлая и даже подкупная, Прищуря мрачный взор, где зависть или злость На нас прольет свой яд, — простим им грех, вздыхая:
Не прейдут бедные чрез Ариманов мост.
Содержание снова заметно усложнилось благодаря уточнениям, возвратам и т. п., знаменующим возникновение незримых (не выраженных синтаксическими средствами), но реальных связей. Подмеченное явление соотносится с тем, что говорил А. А. Потебня о существовании синтаксических связей особого типа — лишенных звуковой «поддержки», незримых, формально не выраженных. Эта незримость «значит, — по словам исследователя, — что мысль не нуждается более в этой внешней опоре, что она довольно сильна и без нее, что она пользуется для распознавания формы другим, более тонким средством, именно знанием места, которое занимает слово в целом»[12]. Такого рода связи, которые ранее обнаруживались также в стихах Симеона Полоцкого, А. Кантемира, В. Тредиаковского и др., мы именуем здесь и в дальнейшем: «ассоциативный синтаксис».
Ассоциативный синтаксис обладает способностью накоротко «стягивать» своеобразной «петлей», превращая в окказиональную смысловую целостность, обширные текстовые фрагменты:
Так Вышний таинства сердечны И мысль всех видит с горних мест, Мрак ада проницает вечный И солнечных пучины гнезд.
В Его — снежинки в море пенном, И искра в пламени возжженном, И черна мравья путь во тме, И в небе след орла паряща, И туча стрел, с луков летяща, Различены уме.
Идолопоклонство, 1810.
Здесь у Державина оборот «в его… уме» разнесен по компонентам на относительно большое стиховое расстояние. Связь между этими компонентами решительно изменила свой обычный синтаксический характер, ибо оборот «принужден» волею поэта-стилиста вместить в себя еще целый период (то есть сложное семантическое образование, пронизанное собственными внутренними связями). Вместить его было бы невозможно, если бы между «в его» и «уме» сохранились в данном контексте чисто грамматические отношения. Оба компонента здесь окказионально сцеплены теми незримыми, формально не выраженными связями, о которых упоминалось выше. Эти связи — факт не языка вообще, а личного державинского слога.
Если выстроить «в ряд» случаи инверсий у Державина, перед нами предстает, безусловно, последовательная тенденция к подчинению грамматических отношений, свойственных письменной речи, неким межсловесным отношениям другого типа, природу которых еще предстоит конкретизовать далее, и которые пока условно именуются нами «ассоциативными». Результатом такого подчинения оказывается интересный и художественно важный семантический эффект.
Как стиль художника слова, бывшего (подобно Пушкину впоследствии) центральной фигурой целой литературной эпохи, стиль Державина требует подробного и конкретного разговора. Однако любое явление лучше всего постигается в сравнении, и ниже мы в ряде случаев приводим с целью стилевого сравнения с Державиным новые цитаты из произведений художников, чье творчество уже разбиралось выше (А. Кантемир, М. Ломоносов, И. Богданович и др.), атакже из стихов державинских современников, чье творчество также необходимо охарактеризовать в данной книге (В. Капнист, И. Дмитриев, Н. Карамзин и др.) и некоторых представителей следующего литературного поколения (К. Батюшков, В. Жуковский и др.). Это поможет дополнительно конкретизировать представления как о стилях названных поэтов, так и о державинском стиле. Как правило, эти цитаты — не отдельные примеры, а словесно-текстовой материал, основанный на анализе академических собраний стихотворений соответствующих авторов и исчерпывающий случаи применения ими того или иного приема, встретившиеся в проанализированных текстах.
Именно Я. К. Грот первым заметил некоторые особенности слога Державина. Любопытна реакция этого выдающегося филолога (в частности, кроме сказанного о нем выше, еще и автора известных, многократно изданных руководств по правописанию), знатока и исследователя Державина, на следующее двустишие последнего из стихотворения 1796 г. «На крещение великого князя Николая Павловича»:
Родителям по крови По сану — исполин…
Анализируя этот фрагмент, Грот писал: «Родителям по крови». В этом стихе неясность. К чему относится родителям? чем управляется этот дательный падеж? Вероятно, следующий за ним предлог по должно разуметь и впереди. У Державина это был бы не единственный случай опущения предлога" (I, 748−749).
Беспредложие в стихотворных произведениях Державина действительно широко распространено.
Чем любовь твою заплатим? —.
восклицает его лирический герой в стихотворении 1809 г. «Геба», не употребляя предлога «за» перед «любовью». Еще более выразительно, сточки зрения нашего современника, неупотребление Державиным предлога «по» в стихотворении 1796 г. «Доказательство творческого бытия»: «День и ночьтечетего уставу». Имеются в стихах Державина и иные показательные образчики такого рода.
Сходный, но самостоятельный случай — не беспредложие, но употребление Державиным в стихах не соответствующего конструкции пред лога: «НА рощах липовых, цветущих / Рои жужжащих пчел вокруг» («Изображение Фелицы» — 1,280); «Орел, ПО высоте паря, / Уж солнце зрит в лучах полдневных» («Вельможа», 1,630); «Господь средь гнева яра, строга, / Блестящее лице С Саула отвратил» («Целение Саула» —111, 13).
Для осмысления подобных приемов важно то, что аналогичные примеры у других поэтов державинской эпохи весьма редки. И. Богданович: «Сойди ко мне, сойди /ОТ мест, тебе приятных» («Душенька»); «Сама рядила путь ВО остров свой обратно» («Душенька»).
В. Капнист-. «Ступай, и разного запаса и напитков, / Как ЗА обед (вм. „НА обед“) пойдем, сюда ты принеси» («Ябеда»). И. Дмитриев: «Сей памятник В моих очах сооружался, / Когда еще тиран был бодр и в цвете лет» («История»); «Сказал, прыгнул В корабль, и волны забелели» («Искатели Фортуны»),.
Беспредложие и употребление как бы «не тех» предлогов знаменует у Державина попытки передачи важных для поэта смысловых нюансов.
Аналогично оценивать приходится систематические взаимные подмены косвенных падежей у Державина. Например, нередко в его стихах можно встретить родительный там, где явно естественны были бы другие падежи:
«Между тщеславья (вм. „тщеславьем“) и пороком» («Фелица»); «Где нам ученые невежды, / Как мгла у путников (вм. „путникам“) тмят вежды» («Фелица»); «Да слов твоих сладчайша тока / И лицезренья наслаждусь» (вм. «током и лицезреньем») («Фелица»); «Яд лести их (вм. „им“) вредить не может» («Видение мурзы»); «Меня ж (вм. „мне“) ничто вредить не может» («На смерть графини Румянцевой»); «Возьмем же истины зерцало, / Посмотрим в нем твоих путей» (вм. «твои пути») («На коварство»); «Приди моей сей песни (вм. „мою… песнь“) слушать» («Меркурию»); «Но твой чертог едва заря / Румянит сквозь завес червленых» (вм. «завесы червленые») («Вельможа»); «Ты ангел мой, благотворитель! / Приди и насладися благ» (вм. «благами») («Приглашение к обеду»); «Он гребет чрез волн (вм. „волны“) и тьму» («Потопление»); «Испытывал своих я сил / (И пел могучих человеков» (вм. «силы») («Афинейскому князю»); «Как луч сквозь мрака пробегает (вм. „мрак“), / Так речь их царску грудь пронзает» («На Мальтийский орден»); «Сквозь говор птиц, сквозь зверска рева (вм. „зверский рев“) / На брак готовясь, плачет дева» («На Мальтийский орден»); «Нигде о нем не звукнет арфа; / Ее (вм. „ей“) не вторит юных песнь» («Первая песнь Пиндара пифическая»); «Народ толпами поспешает / Смотреть к нему таких чудес (вм. «такие чудеса») («Фонарь»); «Что ты, Муза, так печальна, / Пригорюнившись сидишь? Сквозь окошечка хрустальна (вм. «окошечко хрустально») / Склоча волосы, глядишь» («Зима»); «Век меня (вм. «мне») Надежда льстила» («Надежда»); «Я алчу зреть красот твоих» (вм. «красоты твои») («Истина»); «Вакха вдали, верь мне потомство, я видел; / Меж диких он скал сидящий, петь учил песни / Нимф, ставших вокруг, внимавших его (вм. «ему»), и вверх / Завостренных уши козлоногих Сатиров» («К Бахусу»).
Из приведенных текстуальных фрагментов видно, как Державин употребляет в своем стиле родительный падеж на месте творительного, дательного и винительного. Именно вопросы глагольного управления частично затрагивались в грамматиках второй половины XVIII в. (например, в виде списков глаголов, управляющих одним падежом); существовало и общее употребление, узус — естественный стихийный регулятор, подобие нормы. Узус никак не предполагал тут родительного падежа.
Некоторые современники указывали Державину на его падежную «ошибку». Отношение Державина к сторонним замечаниям такого рода было неодинаковым в разных конкретных случаях. Так, упреки вызвало следующее четверостишие из «Фелицы»: «В часы твоих / отдохновений / Ты пишешь в сказках поучений». Я. К. Грот пишет: «Некто Любослов, критикуя в „Собеседнике“ (ч. II, с. 106) некоторые выражения „Фелицы“, остановился и на последнем стихе с замечанием: „Писать принимает падеж винительный, а не родительный“ (I, 145). Сам Грот высказывает, впрочем, предположение, что тут правильный, винительный падеж („поучении“), который Державин просто „думал сократить“, прибегнув к форме „поучений“; Грот утверждает, что „такое сокращение наш поэт позволял себе и в других случаях“ (I, 145). Ср.: Положим, край твоих желаний — / В водах, в лесах, внутрь диких мест / Распространя завоеваний, / Коснуться даже самых звезд» («Слава). Примечание Грота: «Нелишним считаем напомнить, что здесь завоеваний не есть родительный падеж, а поставлен вместо завоевании: особенность не раз встречающаяся у Державина» (III, 48). Исследователь никак не аргументирует свою интерпретацию. Кроме того, она неприложима к прочим приведенным нами образцам перехода «правильных» падежей в родительный. Интересно, что впоследствии Державин переработал подвергнутое Любословом критике двустишие, сделав его вполне соответствующим позднейшей грамматике: «В твои отдел отдохновенья / Ты пишешь в сказках поученья», — то есть косвенно продемонстрировал, что прежнее сам воспринимал все-таки как родительный. В другом случае Державин подчинился правке Львова, который переписал наново его строфу, содержавшую следующий стих с «неправильным» родительным: «И искры брызгали сквозь мрака» («Мечта»),
Однако анализ вариантов убеждает, что Державин-стилист свободно работал и в противоположном направлении. Так, «правильный» падеж в стихе: «Се ты, веков явленье, чудо!» («На победы в Италии» первоначальный вариант) был им переделан в «неправильный»: «Се ты, веков явленье чуда!». Аналогичная переделка «правильного» (винительного) в «неправильный» (родительный) осуществлена в стихотворении «Внимание». В окончательном варианте соответствующее место из него выглядит так:
Я, песни вам слагая, Слагал бы красотам, —.
Красам, хвалу что трубят, И мне, как ты, льстя Муз (вместо «Музам»):
А тем, что Муз не любят, Петь песни не берусь.
Первоначальный вариант: «Красам, которы любят, / Как ты, ласкают Муз, / А тем, кто Музам грубят, / Петь песен не берусь».
Таковы построения Державина с родительным на месте предполагаемых других падежей. Здесь же подчеркнем, что это явление, видимо, действительно яркая особенность державинского индивидуального слога: у других поэтов, того времени попадаются лишь единичные примеры данного рода. И. Богданович: «Душенька уже оставлена от всех»; К. Батюшков: «Ты сам, оставя плуг, придешь меня внимать»; В. Жуковский: «Слушай песни круговой».
Контраст с Державиным разителен. Падежеупотребление у Державина действительно подчинено стилевым задачам, во имя которых он мог быть «и в ладу и в разладе» с современным употреблением. Это подтверждают и другие «не те» падежи.
Дательный на месте других падежей тоже фигурирует в стихах Державина:
«В благополучии кого сравню себе (вм. „с собой“), / Когда златых оков твоих несть буду бремя?» («Невесте»); «Коснешься ли горам (вм. „гор“) — дымятся» («Величество Божие»); «Но ежели наложен долг / Мне (вм. „меня“) от судеб и вышня трона» («Храповицкому»); «Чему (вм. „чего“) коснулся — все сразил» («На взятие Варшавы»)-, «Хоть детской сей игре, забаве (вм. „над… забавой“) / И усмехается мудрец, / Но горний дух летит ко славе, / И свят ему ее венец» («Горелки»); «Граду коснется (вм. „града“) — град упадает, / Башни рукою за облак кидает» («На взятие Варшавы»)', «И один из них, венчаясь / Диадимою царей, / Ей чете (вм. „четы“) своей касаясь, / Удвоялся блеском в ней» («Венчание Леля»).
В отличие от Державина, у других поэтов примеры с дательным на месте других падежей так же единичны, как и с родительным. М. Ломоносов: «Коснись горам (вм. „гор“) и воздымятся»; К. Батюшков: «Зато фортуна мне (вм. „меня“), к несчастью, не ласкала». В. Жуковский: «Нет, никогда ничтожный прах забвенья / Твоим струнам коснуться не дерзнет» (вм. «твоих струн»); «И до меча сама не прикасайся» (вм. «к мечу»); «Они ругаются богам» (вм. «ругают богов»), Державин пользуется такими построениями несравненно шире, чем другие авторы.
Творительный на месте других падежей также встречается у Державина (у прочих художников эпохи выразительных примеров вообще не найдено):
«Когда тобою (вм. „от тебя“) скорбь терплю» («Пени»); «Для острого словца шутить и над законом, / Не уважать отцом, ни матерью, ни троном» (вм. «отца… мать… трон») («Модное остроумие»); «Природа в тишину глубоку/И в крепком погруженнасне"(вм. «в крепкий… сон») («Видение Мурзы»); «Соседи грабежом (вм. «грабежа») алкали» («На взятие Измаила»); «Раздалася слава в свет, / Что с Российским храбрым родом (вм. «Российскому… роду») сопротивников днесь нет» («Хор /» из «Потемкинского праздника»); «Я умирал игрой твоей» (вм. «от игры») («Сафе»); «Проснется Людвиг звуком лир» (вм. «отзвука») («Флот»); «Стану шуткою (вм. «в шутку») влюбляться, / На бумаге пить и петь» («Тишина»); «Не ходи, не раболепствуй, / Смертных Богом не твори» (вм. «из смертных Бога») («Утешение добрым»).
Прямые падежи (именительный, винительный) на месте косвенных в стихах Державина тоже есть. Менее яркая разновидность — с винительным.
«Мы ликуем славы звуки (вм. „от славы звуков“), / Чтоб враги могли то зреть, / Что свои готовы руки / В край вселенной (вм. „до края вселенной“) мы простреть» («Хор I» из «Потемкинского праздника»); «Зефиры веяли власы» (вм. «власами») («Изображение Фелицы»); «Премудростьцарства (вм. „царствами“) управляет» («На взятие Измаила»); «Да будет ей собор державных / Чад ваших, вместо предков славных, / Поставлен править сей народ» (вм. «сим народом») («Песнь брачная чете порфирородной»); «Как луч последний солнца ясна / Блистает, тонет в океан» (вм. «в океане») («Урна»); «Как, склонясь главами ходят, / Башмачками в лад стучат, / Тихо руки, взор (вм. „руками, взором“) поводят / и плечами говорят» («Русские девушки»),.
С фактами исторического прошлого русского языка А. А. Потебня соотносил случаи употребления «второго», по его выражению, именительного (Из записок по русской грамматике, I—II, с. 131).
Эти «вторые именительные» у Державина немалочисленны: «Что солнце, мглою покровенно, / Ядро (вм. „ядром“) казалось раскаленно» («На взятие Измаила»); «Бесценны перстни, камешки / Я брал с нее бы за безделья, / И был, гудком, / Давно мурза (вм. „мурзой“) с большим усом» («Храповицкому»); «Поля и грады стали гробы (вм. „гробами“), шагнул — и царство покорил!» («На взятие Варшавы»); «Сравним ли и прошедши годы / С исчезнувшим минувшим сном: / Не все ли виды нам природы / Лишь бывших мечт явятся сонм» (вм. «сонмом») («Бессмертие души»); «Отныне горы ввек Альпийски /.
Пребудут Россов обелиски" (вм. «обелисками»), / Дымящи холмы — алтари" (вм. «алтарями») {"На переход Альпийских гор"); «Я пою, Пина стала Званка (вм. „Пиндом“); / Совосплещут Музы мне; / Возгремела балалайка /Ия славен в тишине!» («Тишина»); «Да, так! хоть родом я не славен, / Но будучи любимец (вм. „любимцем“) Муз, / Другим вельможам я не равен, / И самой смертью предпочтусь» («Лебедь»); «Другие — счастья быв рабы (вм. „рабами“)/…Быв идолы, бывают прах» (вм. «идолами… прахом») («Облако»). Следующий случай допускает двойную интерпретацию — и как пример со вторым именительным, и как пример с винительным на месте творительного: «И сколько змей сей ни ужасен, / Но поползок его тем паче страшен, / Что дым струится в нем и смрад, / А воздух дышит яд!» (вм. «ядом») («Гимн лиро-эпический»). Но сравнение с первоначальным вариантом «А в воздух дышит яд» заставляет признать первую трактовку более убедительной.
Как видим, даже там, где ритмика сохранилась бы (например, «будучи любимцем Муз» вместо «будучи любимец Муз»), поэт избирает странность — «второй именительный». Державин уникален и в данном случае широтой использования данного приема.
Лишь единичные образчики «второго именительного» отмечаются у некоторых других поэтов эпохи. Л. Кантемир: «Когда столичный град ты обитаешь» (вм. «в столичном граае») («Письмо I, К князю Никите Юрьевичу Трубецкому»). И. Дмитриев: «Я бсмелый был певец неслыханных чудес» (вм. «смелым… певцом») («Причудница»); «Будь добрая жена и мать чадолюбива» (вм. «женой и матерью») («Причудница); «Я, будучи и сам товарищ тех певцов…» (вм. «товарищем») («Чужой толк»); «А великан мой, став по нужде философ» («Слон и Мышь); «Сказал, и, став трубач (вм. «трубачом»), жужжит повестку к бою» («Лев и Комар»). В. Жуковский: «Они, сняв с трупа кандалы, / Его без гроба погребли / В холодном лоне той земли, / На коей он невольник был» (вм. «невольником») («Шильонский узник*); «Да встретит он обильный честью век! / Да славного участник славный будет!» (вм. «участником») («Послание»).
Кроме Державина, впрочем, любил такие построения Н. М. Карамзин:
«Рекла: «Будь мира властелин!» (вм. «властелином») («Дарования»); «Ты хочешь быть, Глупон, Шекспиров подражатель» (вм. «подражателем») («К Шекспирову подражателю»); «Лишь в обществе ты стал Природы властелин"(вм. «властелином») («Протей»); «Сын Фебов был всегда хранитель (вм. «хранителем») алтарей» («Протей»); «Трудись! Давай уставы нам, / И будешь Первый по делам!».
(вм. «первым») («На торжественное коронование… Александра I»); «Блажен, кто не был здесь свидетель / Погибели своих друзей» (вм. «свидетелем») («К Добродетели»); ср. однако здесь же: «Я был игралищем страстей».
Однако никто из поэтов не достигает державинской радикальности в своеобразной работе со словами, выставленными в исходной форме. В его стихотворении «Анакреоново удовольствие» имеется такой парадоксальный оборот:
Почто витиев правил Мне вьючить бремена?
* Премудрость я оставил:
Не надо мне она (II, 441).
Во имя этого автором отброшен первоначальный, «правильный» вариант: «Не надобна она».
«Не надо мне…», казалось бы, может быть поставлено в связь лишь с винительным падежом («ее»). В противном случае синтаксическая связь выглядит просто оборванной. Но опыт державинского стиля свидетельствует: формально-грамматическая «изоляция» определенных элементов фразы, формально-грамматическое «разобщение» элементов фразы сопровождаются созданием окказиональных ассоциативных связей. Последние непривычны, но реальны: «не надо мне она» у Державина не распадается — высказывание как смысловое единство продолжает функционировать.
Итак, «не те» падежи, как сейчас уже можно констатировать, явно играют в слоге Державина и других поэтов его времени некую конкретную художественно-творческую роль.
•*% t
«Выкидка» (эллипсис). «Выкидка» в стихах Державина распространяется не только на отдельные слова, но и на их группы.
[О Потемкине]:
Там под его рукой гиганты, Трепещут земли и моря Другою чистит брилиянты И тешится, на них смотря.
Описание Потемкинского праздника
«Вертикальные» и «диагональные» связи соединяют здесь «накоротко» синтаксически не сближенные слова и позиции в четверостишии: позиция между «рукой» и «гиганты» (первый стих) ассоциативно связана со словом «трепещут» (второй стих); позиция между «другою» и «чистит» аналогично связана со словом «рукой» из первого стиха, и т. д.
Который воду разрешает /.
И лес рубить не запрещает.
Фелица
Не сказав, что именно разрешается делать с водой, автор даже в этом простом случае «снял» логическую, причинно-следственную однолинейность в движении содержания, провоцируя ассоциативную «вспышку» окказиональных связей между словами.
Зияет Время славу стерть.
На смерть князя Мещерского
«Емкость» ассоциативной «ниши» здесь особенно велика. По существу, она в значительной мере объясняет тот факт, что стих «Зияет Время славу стерть» неизменно потрясает русских читателей своей художественно-философской глубиной. Этой глубины лишает фразу любая попытка ликвидации «эллипсиса» (в том числе, естественно, и та, что выше проделана нами в порядке эксперимента, в чисто эвристических целях).
Химер опутан в паутине, Из человека — лютый зверь!
Колесница
Ассоциации, образующие здесь сложное переплетение, могли бы быть прокомментированы аналогично ассоциативным связям в предыдущем фрагменте. В «Колеснице», переполненной размышлениями по поводу трагических перипетий Великой французской революции, никакое однозначное «восстановление» «опущенного» невозможно.
Художественный «эллипсис», как напоминают разобранные примеры, — не только фактор повышения «компактности» словеснохудожественного текста. Это фактор его семантической организации. Эллиптическая «ниша» — позиция, где нарушается линейность развития мысли. В этой позиции образуется как бы перепутанный «узел» лексических и синтаксических «подразумеваний» и соответственно концентрат не поддающегося расчленению, воспринимаемого спонтанно, но реального образного содержания.
Функционально близко к рассмотренному державинское обыкновение применять союзы неожиданным образом, так что соединяемые ими части предложения делаются, по выражению А. А. Потебни, «грамматически неравносильными»[13].
v.
Питомец муз и ими научен.
Эпистола И. И. Шувалову
«Правильная» строка «Воспитан музами и ими научен» не нарушила бы внутреннего строения стиха (метра), хотя б прибавила бы лишнюю стопу. Но вот другой пример, где «выравнивание» грамматики внешне ничего бы не изменило: «Между тщеславья и пороком» («Фелица»). Правка теоретически допустима и на следующем характерном державинском фрагменте: «Всему дающу жизнь и душу / И управляющую всем» («Изображение Фелицы»), В случае бессоюзия («всему дающую жизнь, душу») изменилась бы интонация (что, безусловно, небезразлично для художественного содержания). Но перспектива «отягощений» (спондеев) в принципе обычно не останавливала Державина. Он вводит «неравносильность» потому, что ему нужно столкнуть «дающу» с «управляющую». Очевидно, ему нужно это и в других подобных случаях: «Протяжные и тихи звуки» («Сафе»); «Пусть Даша статна, черноока/ И круглолицая…» («Другу»), и т. п., — всюду аналогичное «столкновение» «неравносильных» частей. «И» в подвергнутых рассмотрению случаях стал как бы «осью», на которой «сгибается» линия развертывания синтаксиса, так что части фразы «подтягиваются» друг к другу ассоциативными связями, создающими уникальные смысловые сближения. Эти связи компенсаторно восполняют обрывы или ослабление обычных, чисто синтаксических отношений.
А. А. Потебня указывает на древнерусские примеры типы «тьма было», «пришло их тьма»[14]. Выражения типа «тьма было» проливают некоторый свет на тип «связи несвязуемого» у Державина, заключающийся в соединении существительного в среднем роде с глаголом прошедшего времени в мужском грамматическом оформлении: «На полянке роз душистой / Спал прекрасное дитя» («Спящий Эрот»);
«Подбежал ко мне дитя» («На пастуший балет»). «Молодежь вдруг засмеялись / — Нас схватили у девиц» («Фалкоиетов Купидон»). Примечание Я. К. Грота: «Молодежь — засмеялись» — особенность державинского языка" (II, 514).
Другие проявления этой особенности у Державина позволяют ощутить важность ее для его индивидуального слога: «Ты здрав! Хор Муз, тебе любезных, / Драгую жизнь твою любя, / Наместо кипарисов слезных, / Венчают лаврами тебя» («На выздоровление Мецената» — I, 124). Удивленное примечание Я. К. Грота: «Мы не решились поставить венчает, потому что во всех текстах, как печатных, так и рукописных, употреблено здесь множественное число и в соответствие собирательному имени хор» (1,124).
«Ангеловсонм,/Руки простерши,/Ольгуприемлют/В светлый свой полк» («На кончину великой княгини Ольги Павловны» — 1,658). Я. К. Грот: «Здесь, как и в другом, прежде замеченном месте…, Державин ставит при собирательном имени глагол во множественном числе» (I, 658).
Два предыдущих примечания — свидетельство, с одной стороны, пристальности филологического внимания Я. К. Грота, а с другой — косвенное свидетельство «ригоризма» грамматических норм его времени. «Хор» и «сонм» — собирательные существительные, а «родство собирательности со множественностью в старину проявлялось отчетливее, чем ныне: в старом русском собирательные большею частью понимались почти как формы множественного»[15].
Видимо, нечто необычное в последних двух державинских примерах можно усматривать лишь с позиции повышенных требований к «правильному» письменному синтаксису. Однако вот в чем дело: такими примерами не исчерпываются случаи несоответствия между единственным и множественным числом у Державина. В других случаях причину следует искать не в «собирательности». Это особенности личного слога.
«Жив Бог!» царь рек — и меч полсвета, / Как быстры молньи, обнажил…" («На Мальтийский орден»). «Меч» со всей ясностью, которой не мог не видеть и Державин, подразумевает форму единственного, а не множественного числа (то есть «быстру молнью»); формы эти могли быть введены путем простой правки окончаний, то есть без каких-либо изменений ритмики. Однако при этом менялся бы смысл: «быстры молньи» не просто перифраза слова «меч» — это динамический образ молниеносных движений разящего меча.
Далее, необычное соединение обычных слов может, например, проявляться в их подборе по принципу звукового подобия. Это также характерная особенность державинского слога. Например:
Весна венцом венчалась лета На мир 1807 года
У Державина примат звуковых ассоциаций над формально-синтаксическими прослеживается весьма определенно. Это ясно прослеживается в стихотворении «Колесница», где стих «В ров мрачный вержется вверх дном» Державин первоначально построил иначе: «В ров страшный падает…»; «вержется» появилось позднее: основания его введения поэтом (на месте «падает») весьма прозрачны — для Державина перемена «падает» на «вержется» явно уточняет смысл, то есть видоизменяет его. Данные слова в «контексте» державинского стиля синонимами никак не являются! А вот стих, который вызвал недоуменные комментарии Капниста: «И гул глухой в глуши гудет» («Любителю художеств»). Капнист в своих примечаниях на издание стихов Державина 1789 г. указал автору на сопоставление слов «глухой» и «в глуши» и на форму глагола «ропчет» в предыдущем стихе («По мрачным, горным дебрям ропчет»), написав рядом вопрос: «Что это?» (I, 369). Ответ возможен: это, по-видимому, не что иное, как «выравнивание» звукового облика слова по другим, содержащим звук «ч». «Ропчет» орфографически и фонетически «неправильно», но зато включено в особую ассоциативную связь — в цепь слов с аллитерацией на «ч». Объяснять введение данной «неправильности» иначе — стремлением поэта «уточнить» рифму («грохочет/ропчет») — менее основательно, поскольку «грохочет/ропчет» было бы весьма обычным и органичным для державинского стиля ассонансом (ср. хотя бы «бездны/зажжены» в оде «На переход Альпийских гор». Первоначальный вариант тоже неточный: «бездны/бревны»).
Уместно оговориться: природа державинских ассонансов (вокруг которых в науке было много споров) для выяснения своего также требует учета предшествующих рифменному созвучию связей внутри зарифмованных строк. Последние могут «провоцировать» ассонансы на концах стихов. Так, в стихотворении Державина «Купидон» наличествует не просто неточная рифма «стрелы/мерзлы» — ее компоненты «задействованы» в ассоциативном синтаксисе: «В туле лук на нем и стрелы / …Тер руками руки мерзлы». «В туле», ««лук», «лук» и «руки» создают ассоциативную перекличку, усложняя характер ассоциативных отношений в зарифмованных стихах.
Не изучено то реальное интересное обстоятельство, что в ранних и черновых вариантах стихотворные тексты Державина заметно грамматически «правильнее», чем в окончательных вариантах произведений (а не наоборот).
Так, в оде Державина «На переход Альпийских гор» (1799) первоначально фигурировала синтаксически совершенно «безупречная» строка «И беззащитен уже он», концевое слово которой рифмовалось ниже с фамилией «Багратион». Однако, работая над произведением, Державин ввел взамен строку с явно негладким употреблением так называемого «сочинительного» союза «и»: «Стал безоружен и один», которую срифмовал уже со словом «Россиянин». «И» соединяет здесь части грамматически «неравносильные», если употребить обозначение А. А. Потебни. Нечто аналогичное делалось Державиным неоднократно. Об этом свидетельствуют варианты его произведений. Так, в стихотворении «Утро» (1800) поэт заменил синтаксически «правильную» конструкцию фразы из первоначальной рукописи «Свистал лишь ветр, лишь древ листы шептали» на такую окончательную ее конструкцию: «А только ветров свист, лесов листы шептали», — оба перечисляемых компонента грамматически «неравносильны».
Странный ход работы художника над черновиками и вариантами в ряде случаев может казаться преднамеренной «борьбой» против грамматики. Подобные его действия не случайно много раз бывали объектом недоуменных гаданий. Я. К. Грот писал: «Одни думают, что он был вовсе не в состоянии исправлять то, что раз вылилось у него из-под пера; другие представляют себе, что он, поправляя, только портил стихи»[16].
И. И. Дмитриев в книге «Взгляд на мою жизнь» вспоминает: «Державин при всем своем гении с великим трудом поправлял свои стихи. Он снисходительно выслушивал советы и замечания, охотно принимался за переделку стиха, но редко имел в том удачу»[17][18][19]. Державин даже отвечал ему: «Что же? вы хотите, чтобы я стал переживать свою жизнь по-вашему?»[20]
С. Т. Аксаков, вспоминая о своем общении с Державиным, рассуждал:
«Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она… даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся с языком без всякого уважения: гнул на колено синтаксис, словоударение и самое словоупотребление (курсив наш. — Ю.М.). Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовленных им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправленное было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями»[21].
Я. К. Грот позже писал, со своей стороны, «что Державин не боится ошибок… против синтаксиса»[22]. Здесь исследовательрассуждает так, словно при жизни поэта существовали жесткие синтаксические правила, которые можно было бесстрашно нарушать. С ним нельзя согласиться. Это вХ1Х в., когда были написаны цитированные слова Грота, такие правила уже имелись — сложилась синтаксическая теория, и ее нормы могли изучаться русскими людьми по «руководствам, принявшим за образец речь карамзинскую» (выражение Ф. И. Буслаева).
На деле Державин фактически писал не против правил синтаксиса, а вне таких правил. То, что воспринималось позднее как «неправильности» в его слоге, следует интерпретировать, по-видимому, несколько иначе.
М. В. Ломоносов говорит, подчеркивая, что русский язык — «едва пределы имеющее море»: «…Сколько могя измерить, сочинил малый сей и общий чертеж всея обширности — Российскую грамматику, главные (курсив мой. — Ю. М.) только правила в себе содержащую»[23]. В частности, грамматика Ломоносова не включает синтаксиса. Постломоносовские граматики XVIII в. следуют тому же принципу. «Большая» грамматика А. А. Барсова затрагивает синтаксические вопросы крайне бегло. Напротив, в XIX в., когда писал свои воспоминания Аксаков и работал Грот, уже существовало несколько синтаксических концепций. В XIX в., в отличие от века предыдущего, уже было что «нарушать». Люди этого времени, что и естественно, воспринимали державинские тексты сквозь призму такой ситуации, то есть давали его слогу модернизированное истолкование.
Но если и так, существенны два вопроса. Во-первых, нет ли все-таки у державинских оригинальных поэтических приемов объективной языковой основы? С другой стороны — вопрос литературоведчески куда более существенный: какова же объективная художественная цель тех творческих усилий поэта, которые внешне выглядят «антиграмматическими»?
Не написав системы синтаксических правил, Ломоносов дал многочисленные практические «образцы* оригинальных синтаксических построений в своих стихах и прозе. Но люди XVIII в. (в частности, Державин) вряд ли могли подобным образом слитно воспринимать тлорию и практику Ломоносова, видеть в оборотах из его стихов нечто претендующее быть «правилом для других». Трудно представить, что Державин (при всем его пиетете перед крупнейшим предшественником) способен усмотреть в ломоносовском поэтическом слоге систему директивных грамматических предписаний, покушение на свою творческую свободу — набор общеобязательных «правил», которые необходимо «нарушать». Он, конечно, просто действовал по принципу: Ломоносов пишет вот так, а я — по-своему, иначе.
Почувствовать, насколько неоднозначна распространенная репутация Державина-стилиста как якобы нарушителя норм грамматики, можно на таком простом примере. В стихах Державина неоднократно представлено «неправильное» (сточки зрения позднейших «школьных» норм) соединение слов разного рода, например:
Огроча порфирородно В царстве северном рожден.
На рождение в севере порфирородного отрока, 1780.
или На полянке роз душистой Спал прекрасное дитя.
Спящий Эрот, 1795.
Соединения типа «спал дитя» казались неправильными и некоторым современникам Державина. Я. К. Грот сообщает по поводу первого примера: «Во второй части «Собеседника* (С. 112) некто Любослов, критикуя разные стихи Державина, заметил: «Рожден должно быть в также в среднем роде, как и порфирородно» (I, 83). Весьма заманчиво, основываясь на данной реплике прижизненного державинского критика, констатировать нарушение поэтом «нормы». Однако стоит поискать у других стихотворцев, и оказывается, что свою претензию Любослову следовало бы адресовать многим другим крупнейшим художникам XVIII-начала XIX в.
И. Дмитриев: «Как я велик! дитя со столика вскричал…» («Дитя на столе*); В. Жуковский: „Вера был вожатый мой“ („Путешественник“); К. Батюшков: Близ Федра и Пильпая / Там Дмитриев сидит; / Беседуя с зверями, / Как счастливый дитя» («Мои пенаты»).
Грамматическая «неправильность», обнаруженная у Державина, оказывается, есть в его время, так сказать, «общепоэтическое достояние». Можно привести и иные подобные примеры. Допустим, бросаются в глаза в стихах Державина «неправильные» по оформлению родительные падежи типа славянов, брызгав, аромат, стихиев, морь и т. п. Ср.: «От брызгав синий холм стоит» («Водопад», 1791); «Средь вин, сластей и аромат» («Фелица», 1782); «Что се! Стихиев ли борьба?» («Гимн лиро-эпический», 1812); «Кротил свирепость бурь и морь» («Христос», 1814). Однако аналогичные «неправильности» есть и у других поэтов интересующей нас эпохи.
М. Ломоносов: «Художников збирал и обучал солдатов» («Надпись I к статуе Петра Великого»); «Казацких поль заднестрской тать» («На взятие Хотина*); «Седми пространных морь брегов» (там же); И. Дмитриев: «Где ты, славянов храбрых сила?».
В начале XIX в. эти формы также еще жили:
В. Жуковский: «В вас зрю я доблесть славянинов» («Добродетель»); «По знаку данному сорвал / Монах с лица ее покров; / И кудри черных волосов / Упали тучей по плечам» («Суд в подземелье»), К. Батюшков: «На кафедру летит град яблоков и фиг» («Странствователь и домосед»); «О солнце! Чудно ты среди небесных чуд!» («Подражания древним»); «В Элизий приведешь таинственной стезей, / Туда, где вечный май меж рощей и полей» («Элегия из Тибулла»),.
Державин несколькими десятилетиями раньше находился в специфической ситуации, когда, между прочим, в книжной речи сосуществовали собственно русские синтаксические обороты с церковнославянскими. Если первые действительно были еще не учтены грамматистами в должной мере и не нормированы, то положение со вторыми было во многом иным. Тут книжная норма имелась. Возникает дополнительный вопрос, третий: не обусловлена ли общая репутация Державина как нарушителя грамматики какимито действительными его «неправильностями», но не в русских, а в церковнославянских оборотах! Ведь такие «церковнославянские» «неправильности» в его стихах на самом деле попадаются. Например:
Тогда тебе дщерь тирска длани Прострет со многоценны дани.
Песнь брачная чете порфирородной, 1793.
Примечание Я. К. Грота к этому фрагменту: «…Т.е. со многоценными данями. Тут явная ошибка против форм церковнославянского языка» (I, 557). Итак, тут псевдославянизм, но его легко объяснить тем, что перед нами — художественная условность, «условная неправда» искусства. В принципе церковнославянская речевая стихия, безусловно, была активно действующей силой в сознании Державина. Но не менее активной стихией была в его сознании русская устная речь с ее специфическими особенностями, о которых говорилось выше применительно к поэзии русского барокко. И странная правка, которой любил подвергать поэт свои стихи, явно имела объективную языковую базу — он вносил в них особые обороты, основанные на его личном ощущении правил построения устной речи.
Подчеркнем со всей силой: разумеется — устная и поэтическая речь суть различные системы. Стихотворный синтаксис Державина ни в коем случае нельзя считать буквально копирующим синтаксис устной речи. Не говоря уже о такой важной особенности стихотворной речи, как ее ритмичность (со всем, что изданной особенности следует), стихотворная речь есть художественная речь (со всем, что следует из этого второго обстоятельства). Индивидуальному слогу Державина присущи элементы «устного» и «письменного» типа, в конкретных произведениях представленные в разной пропорции и в разных обличьях. Устная речь подсказывала поэту приемы компактного, основанного на неожиданных ассоциациях смыслового развития.
Существующая орфографическая символика в силу объективных причин никак не приспособлена для задач письменного воспроизведения смысловых нюансов устной речи. Записанные на бумаге, стихи, в которых автором были интенсивно применены особенности устного синтаксиса, отчасти уподобляются нотам. Для одних, специально подготовленных людей, эти поэтические «ноты» и на бумаге «звучат», для других же они становятся «музыкой», обретают художественное звучание, лишь когда подключается исполнительдекламатор. Он восстанавливает все необходимые интонационные средства и паузы, а также весьма важные для передачи деталей содержания устной речи паралингвистические факторы (мимика, жесты, позы и т. п.). С этим следует соотнести огромный интерес Державина к декламации — по воспоминаниям С. Т. Аксакова, Державин, узнав, что он обладает декламационным даром, без конца заставлял исполнять державинские произведения[24]. Поэт инстинктивно чувствовал преимущества реального устного исполнения тех стихов, в которых в образно-творческих целях им были задействованы многие специфические приемы устно-речевого развития содержания. Приведем еще один характерный пример. Филолог начала XIX в. пишет:
«Державин первый ввел в употребление в начале строфы или стиха повторение одного слова и посредством сего слова соединял иногда самые несвязные мысли… без всякой особливой надобности»[25]. В другом месте он же говорит еще об одном поэте XVIII в.: «Вообще в одах Ломоносова часто… строфы связываются холодными выражениями: «Но се! но что я зрю! но горы и поля, скачите!»[26]. Прежде всего стоит отрешиться от неодобрительного тона автора высказываний, который может быть чисто субъективным. Вот в чем, однако, суть: поэты связывают части произведения путем как будто бы немотивированного повтора определенных слов и выражений. Но в устной речи подобные повторы или восклицания и распространены, и необходимо нужны для поддержания смысловой нити декламируемого текста в сознании слушателей! Оды Ломоносова и Державина просто явно рассчитаны не только на чтение глазами, но и на слуховое их восприятие.
Многие из од и стихотворений Державина целиком или частично представляют собой творческие подражания (парафразисы: вариации, стилизации и т. п.) — например, подражания христианским псалмам («Властителям и судиям», «Величество Божие», «Праведный судия», «Победителю» и др.), Горацию («О удовольствии», «Похвала сельской жизни», «На смерть графини Румянцевой», «Памятник», «Весна», «Лебедь» и др.), Пиндару («Афинейскому витязю», «Песня Пиндара Пифическая» и др.), Анакреону, Оссиану, немецким поэтам — и иным литературным «подлинникам». Мы уже сталкивались с этим явлением применительно к другим художникам XVIII в. Как художественная практика эпох барокко и классицизма, так и европейская эстетическая теория XVII—XVIII вв. помимо подражания природе выдвигала в качестве одной из основных форм художественно-творческого подражания (то есть полноценного творчества) именно подражание великим художникам античности, произведения и стили которых полагались образцовыми. Это одна из основных тем «Поэтики» Феофана Прокоповича. Об этом много говорилось, в частности, и таким популярным в России эстетиком, как Ш. Батте.
В свое время Я. К. Гротом было привлечено внимание к тому интересному обстоятельству, что Державин в известной автохарактеристике прямо указывает, как после своего отказа от попыток «парить» по-ломоносовски с 1779 г. избрал «совершенно особый» (курсив наш. — Ю. М.) путь, руководствуясь наставлениями Батте…"[27][28]. Батте был авторитетом для Державина и в период создания книги «Рассуждение о лирической поэзии, или Об оде», перекликающейся с Батте в ряде теоретических формулировок[29]. На этом «особом пути» Державин создал целый ряд ярко-художественных, но одновременно парафрастических произведений — одно другому не противоречит.
В поэтической практике Державина выбор объекта парафразирования диктовался не формальными соображениями, а характером тех идей, которые высказывались в заинтересовавшем его чужом произведении. Как подмечено, например, А. Ф. Мерзляковым, «Для переложений Державин избирал особенно те псалмы, которые именуются песнями правды и посвящены ей»[29]. Можно понять, чем были особенно внутренне близки именно эти псалмы Державину, который сам шутливо признавал за собой, что «горяч и в правде черт».
Теоретические воззрения Державина на литературу высказаны, прежде всего, в его книге «Рассуждение о лирической поэзии, или Об оде» (1811−1815). Важнейшим, даже необходимым условием для успешного творчества поэт считает состояние вдохновения:
«Вдохновение не что иное есть, как живое ощущение, дар Неба, луч Божества. Поэт, в полном упоении чувств своих разгорался свышним оным пламенем или, просто сказать, воображением, приходит в восторг, схватывает лиру и поет, что ему велит его сердце. Не разгорячась и не чувствуя себя восхищенным, и приниматься он за лиру не должен. Вдохновение рождается прикосновением случая к страсти поэта, как искра в пепле, оживляясь дуновением ветра; воспламеняется помыслами, усугубляется ободрением, поддерживается окружными видами, согласными со страстью, которая его трогает, и обнаруживается впечатлением, или излиянием мыслей о той страсти, или ея предметах, которые воспеваются. В прямом вдохновении нет ни связи, ни холоднаго разсуждения; оно даже их убегает и в высоком парении своем ищет только живых, чрезвычайных, занимательных представлений. От того-то в превосходных лириках всякое слово есть мысль, всякая мысль картина, всякая картина чувство, всякое чувство выражение, то высокое, то пламенное, то сильное, то особую краску и приятность в себе имеющее».
Для творчества в состоянии вдохновения естественна стихийность решений, основанных не на логике, не на рассудочных мотивах, а на инстинктивном ощущении «тайной связи» между компонентами создаваемого произведения:
«Безпорядок лирический значит то, что восторженный разум не успевает чрезмерно быстротекущих мыслей расположить логически. Потому ода плана не терпит. Но безпорядок сей есть высокий безпорядок, или безпорядок правильный. Между периодов, или строф, находится тайная связь, как между видимых, прерывистых колен перуна неудобозримая нить горючей материи. Иначе сей мнимый безпорядок будет на самом деле безпорядок…».
Иными словами, художественный, преднамеренный беспорядок — это, конечно, внешне выглядит как «неправильность», но, по сути, тут неправильность мнимая.
Краткость слога Державин считает тем, к чему заведомо следует стремиться, ибо краткости требуют сила и искренность поэтического чувства:
«Известно, что пламенное чувство изъясняется кратко, но сильно. Поелику высокая ода наполняется горячим, сильным чувством, то и разумеется, что ода должна быть кратка, или по крайней мере не слишком длинна».
В своей книге Державин сформулировал характерный принцип, позже не раз выдвигавшийся другими авторами и школами, и названный в серебряный век принципом художественного синтеза или синтеза искусств. Поэзия, по его мнению, есть словесная живопись (интересно, что сходные идеи высказывали западные теоретики барокко):
«Сравнения и уподобления суть иероглифы, или немой язык поэзии. Поелику она по подражательной своей способности не что иное есть, как говорящая живопись».
В другом месте Державин говорит и о необходимости насыщения поэзии музыкальным началом. Становится понятно, что сложная и выразительная звукопись, характерная для его стихов, с его точки зрения, призвана реализовать синтез слова и музыки:
«Знаток в том и другом искусстве тотчас приметит, согласна ли поэзия с музыкою в своих понятиях, в своих чувствах, в своих картинах и, наконец, в подражании природе. Например: свистит ли выговор стиха и тон музыки при изображении свистящаго или шипящагозмия, подобно ему; грохочет ли гром, журчит ли источник, бушует ли лес, смеется ли роща».
Развивая идеи о родстве словесного и музыкального искусства, поэт посвящает специальный раздел книги песне как особому явлению, синтетически сочетающему словесно-текстовое и музыкальное начала. Подробно сопоставляет он песню с тем, в чем он сам стал сильнейшим мастером своего времени, — с одой:
«В оде и песне столь много обшаго, что та и другая имеют право на присвоение себе обоюднаго названия; однакожо не неможно указать и между ими некоторых оттенок, как по внутреннему, так и по внешнему их расположению. По внутреннему: песня держится всегда одного прямаго направления, а ода извивчиво удаляется к околичным и побочным идеям. Песня изъясняет одну какую-либо страсть, а ода перелетает и к другим. Песня имеет слог простой, тонкий, тихий, сладкий, легкий, чистый; а ода смелый, громкий, возвышенный, цветущий, блестящий и не столько иногда обработанный. Песня долгое время иногда удерживает одно ощущение, дабы продолжением онаго более напечатлеться в памяти, а ода разнообразием своим приводит ум в восторг и скоро забывается. Песня сколько возможно удаляет от себя картины и витийство, а ода, напротив того, украшается ими. Песня чувство, а ода жар».
Книга Державина, к сожалению, до сих пор опубликована не полностью (несколько раз издававалась ее первая половина, а также были попытки советского времени публиковать в периодике фрагменты третьей и четвертой части). Однако и доступные читателю.
ее разделы позволяют ощутить незаурядность и глубину личности поэта. Практик художественного слова на склоне лет дал блестящее теоретическое обобщение собственному творчеству и одновременно высказал целый ряд проницательных и не утративших своей актуальности суждений о работе поэта вообще. Кроме того, как и в своих автобиографических «Записках», Державин выступил здесь писателем, мастером прозаического слога — уже по приведенным выше фрагментам можно почувствовать его глубокое стилевое своеобразие.
- [1] Произведения Державина здесь и далее цитируются, кроме особо оговоренных случаев, по изданию: Державин Г. Р. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. К. Грота. Т. I—IX. СПб., 1864—1883. Далее ссылкив тексте; римская цифра обозначает номер тома, арабская — номер страницы.
- [2] В державинской контрагрументации любопытно явное и близкое знакомствос поэтикой и риторикой (ср. устойчивую на протяжении XIX в. репутацию Державина как «самоучки»).
- [3] 7 ГротЯ. К. ХарактеристикаДержавина как поэта. СПб., 1866. С. 3—4.Я. К. Гротувлеченно изучал Державина с первых своих шагов в науке (см.: ПерепискаЯ. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. СПб. 1896).
- [4] Цит. по. Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984. С. 176.
- [5] Степанов Г. В. О границах лингвистического и литературоведческого анализа // Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. М., 1982. С. 23−24.
- [6] Цит. по Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы. М., 1975. С. 240.
- [7] Цит. по: сб. XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969. С. 145.
- [8] Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 145, 147.
- [9] Недавно духовные оды Державина были изданы (многие — после долгого перерыва — отдельной книгой. См.: Державин Г. Р. Духовные оды. М., 1993.)
- [10] ' Грот Я. К. Язык Державина// Сочинения Державина (IX, 353).
- [11] См., напр.: Грот Я. К. Жизнь Державина. СПб., 1880—1883. Т. I—II.
- [12] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М., 1958, Т. I—II. С. 66.
- [13] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. I—II. С. 190.
- [14] Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, М., 1968. Т. III. С. 366,348.
- [15] Овсянико-Куликовский Д. Н. Синтаксис русского языка. СПб., 1912. С. 18. Данное высказывание Овсянико-Куликовского основывается на обширномматериале, извлеченном из работ А. А. Потебни.
- [16] Грот Я. К. Предисловие// Сочинения Державина. Т. I. С. 37.
- [17] Первое — готовность поэта к правке первоначального текста — объективное
- [18] наблюдение, но последнее утверждение («редко имел в том удачу») отражает,
- [19] разумеется, только личное мнение Дмитриева.
- [20] 2 Державин Г. Р. Соч. В 9 т. Т. 8, СПб., 1880. С. 704.
- [21] Аксаков С. Т. Знакомство с Державиным // Аксаков С. Т. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. М" 1955. С. 331.
- [22] Грот Я. К. Язык Державина//Державин. Его жизнь и сочинения. М., 1911.С. 94.
- [23] Ломоносов М. В. Предисловие к «Российской грамматике». С. 392.
- [24] Аксаков С. Т. Знакомство с Державиным. С. 314—336.
- [25] Мерзляков А. Ф. Державин //Труды Общества любителей российской словесности. М" 1820. Ч. 18. С. 37−39.
- [26] Мерзляков А. Ф. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии. С. 124.
- [27] См.: Грот Я. К. Жизнь Державина. СПб., 1880. С. 275.
- [28] 3 См.: Машкин А. Эстетическая теория Батте и лирика Державина. Казань, 1916.
- [29] Цит. по: сб. Гавриил Романович Державин. Его жизнь и сочинения. М., 1911. С. 86.
- [30] Цит. по: сб. Гавриил Романович Державин. Его жизнь и сочинения. М., 1911. С. 86.