Введение.
Социокультурный дискурс автобиографической прозы н. А. Дуровой
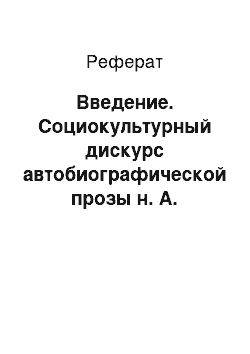
Которой происходит закрепление полученной автором информации. Память в мемуарах неизбежно избирательна, так как обычно лучше запоминается то, что субъективно важно для человека, что ассоциируется у него с положительными эмоциями. Для «оживления» памяти мемуарист может обращаться к другим источникам — чужим мемуарам, документам, историческим сочиненим и т. д., которые способствуют «пробуждению… Читать ещё >
Введение. Социокультурный дискурс автобиографической прозы н. А. Дуровой (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Социокультурный дискурс представляет собой в настоящее время важнейший аспект филологического анализа любого мемуарного текста. Он дает возможность актуализировать главные жанрово-родовые особенности автодокументальной литературы, позволяя рассматривать данную литературу в широком контексте проблематики, обеспечивающей историко-культурное функционирование механизма личностного начала, структурообразующего для российской художественно-документальной словесности со второй половины XVIII в.
Мемуары (от лат. memoria — память) представляют собой одну из самых интересных и востребованных областей русской литературы. Этот вид литературы в различных гуманитарных науках носит разные названия. Историки называют его источниками личного происхождения или эгодокументами, филологи — мемуарно-автобиографической литературой, в последние годы все более популярным становится термин автодокументальная литература. В связи с многообразием жанровых форм данной литературы (записки, воспоминания, исповедальная проза, дневниковая проза) можно согласиться с правом на существование таких авторских определений подобного вида словесности, как субъективный жанр (термин филолога Ю. Н. Солонина), непроявленный жанр (А. Ахматова).
Существует большое количество определений, фиксирующих в себе жанровую специфику мемуарного текста. Причем большинство этих определений вполне солидаризируется друг с другом относительно того, что же следует считать мемуарным текстом. Так, в «Толковом словаре» В. И. Даля сказано, что «мемуары — это „житейские записки“, события, описанные очевидцем, современником» [Даль, с. 318]. Авторы энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. Е. Ефрона видят в мемуарах «записки современников — повествования о событиях, в которых автор мемуаров принимал участие или которые известны ему от очевидцев», в них «на первый план выступает лицо автора, со своими сочувствиями и нерасположениями, со своими стремлениями и видами» [Брокгауз, Ефрон, с. 70]. Краткая литературная энциклопедия (статья Л. Левицкого) определяет мемуары как «повествование в форме записок от лица автора о реальных событиях прошлого, участником или очевидцем которых он был» [Левицкий, с. 759]. Наконец, один из лучших исследователей мемуарной литературы XX в. А. Тартаковский говорит о мемуарах как о «повествованиях о прошлом, основанных на личном опыте и собственной памяти автора» [Тартаковский, 1980, с. 22−23].
Таким образом, во всех определениях присутствует упоминание о том, что мемуары — это повествование (записки, воспоминания) о прошлом, в котором автор принимал участие.
При общей характеристике жанровой природы мемуарного текста можно воспользоваться классификацией их видовых признаков, предложенной А. Тартаковским. Исследователь выделяет три отличительных признака мемуарного текста. Это личностное начало (личностность), ретроспективность и память.
Личностное начало предполагает, что «весь рассказ о прошлом строится… чрез призму индивидуального восприятия автора» [Там же, с. 27]. Именно личность автора «выступает… как организующий стержень мемуарного повествования, как его структурный принцип» [Там же]. Ярче всего эта видовая черта мемуарно-автобиографической литературы проявляет себя в традиции романтического моделирования личности автора. Именно романтики занимались «моделированием» своего исторического характера в самой крайней форме, в форме романтического жизнетворчества — преднамеренного построения в жизни художественных образов и эстетически организованных сюжетов" [Гинзбург, с. 23]. В русской мемуарной литературе подобное «романтическое жизнетворчество» дает себя знать в «Военных записках» Д. Давыдова, в «Записках» Е. Хвостовой (Сушковой), в «Записках кавалеристдевицы» Н. А. Дуровой.
Вторая видовая черта мемуарного текста, по Тартаковскому, ретроспективность. Мемуары всегда пишутся «после описываемого в них и всегда обращены в прошлое» [Тартаковский, 1980, с. 29]. Временная дистанция мемуарного текста может быть от нескольких недель до нескольких десятилетий. Темпоральная дистанция между временем написания мемуаров и теми событиями, которые в них описываются, обусловливает аберрацию (то есть смещение, разрушение) личной точки зрения мемуариста на данные события. Это совершенно объективный факт, так как почти всегда 60−70-летний автор не может смотреть на мир глазами 20-летнего автобиографического героя своего мемуарного текста. Иногда автор меняет свою точку зрения на события под влиянием накопившегося житейского опыта, осуществляя суд над самим собой в молодости. Отсюда проистекает критика автороммемуаристом поведения автора — действующего лица мемуарного текста. Так, декабрист С. Г. Волконский в «Воспоминаниях», написанных после 30 лет сибирской ссылки в 1859 г., очень иронично воспринимал забавы своей кавалергардской молодости, пришедшейся на эпоху Наполеоновских войн, критически относясь к самому типу человека, созданного Александровским временем и не способного «к делу», а только к «глупому молодечеству». Совершенно очевидно, что акценты в мемуарном тексте были бы совершенно иными, если бы Волконский создавал свои записки об эпохе Наполеоновских войн вскоре после описываемых событий.
Третий важнейший жанрово-видовой признак мемуарного текста — собственно намять, которая в мемуарном тексте выступает как средство аккумулирования прошлого и при помощи 6.
которой происходит закрепление полученной автором информации. Память в мемуарах неизбежно избирательна, так как обычно лучше запоминается то, что субъективно важно для человека, что ассоциируется у него с положительными эмоциями. Для «оживления» памяти мемуарист может обращаться к другим источникам — чужим мемуарам, документам, историческим сочиненим и т. д., которые способствуют «пробуждению» его собственной памяти, помогают ему вернуться в психологическую обстановку 20−30−40-летней давности. Иногда это приводит к неожиданным результатам. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда мемуарный текст корректируется литературным текстом, выступающем в роли первоисточника. Например, сестра супруги Л. Н. Толстого Софьи Андреевны Татьяна (в замужестве Кузьминская) в своих воспоминаниях «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» доказывает своим читателям, что она была единственным прототипом героини романа Л. Н. Толстого «Война и мир» Наташи Ростовой. В силу этой сверхзадачи она моделирует образ героини своих мемуаров в соответствии с «романным поведением» героини романа Толстого. Это приводит к многочисленным перекличкам между воспоминаниями Т. А. Кузьминской и романом Л. Толстого как на сюжетном, так и на собственно речевом уровне текста. Если не знать того факта, что роман «Война и мир» появился раньше воспоминаний Т. А. Кузьминской, то можно было бы предположить, что, наоборот, Толстой использовал текст воспоминаний своячницы для создания романного образа своей героини, хотя на деле в силу активизации «памяти» автора за счет толстовского романа все было с точностью до наоборот.
В России мемуарно-автобиографическая литература начала свое активное развитие только во второй половине XVIII в., в эпоху Просвещения. Именно в этой литературе, которую Г. Гачев называл альтернативной литературой, нашел свое отражение механизм пробуждения личностного самосознания человека, который уже не хотел «жить молча». При этом абсолютное большинство мемуаров XVIII в. писалось авторами для личного и семейного пользования, по сути дела, «в стол». «Установка на гласность», то есть на публикацию, появилась в отечественной мемуаристике лишь после Отечественной войны 1812 г.
Основной целью учебного пособия является не только раскрытие своеобразия поэтики мемуарно-автобиографического текста, но и рассмотрение вопросов, связанных с его функционированием в литературном и социокультурном пространстве. В качестве примера мемуарного текста, на основе которого будут рассмотрены основные направления и принципы подобного анализа, в учебном пособии нами взяты «Записки кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой. Выбор для анализа именно этого текста продиктован несколькими причинами.
Во-первых, исключительностью личности самого автора «Записок». Судьба Надежды Андреевны Дуровой, первой русской женщины-офицера, Георгиевского кавалера, героини Отечественной войны 1812 г., была необычной не только для XIX в., который в духе романтической традиции готов был отожествлять «воинственную деву» с новейшей Беллоной, римской богиней войны, но и для века XVIII, в котором она родилась. XVIII в., «век коронованной интриги», по словам М. Цветаевой, дал миру множество имен женщин-авантюристок, легко менявших свой гендерный статус, надевая мужскую одежду в традициях «гендерного маскарада». Самым известным из этих имен стало имя шевалье д’Эона, о котором можно было сказать словами римского поэта Публия Овидия Назона «то мужчина, то женщина» и о половой принадлежности которого спорили дамы и кавалеры от Парижа до Санкт-Петербурга. Тем не менее, женщины XVIII в., совершая великие деяния в военных мундирах и со шпагой в руке, наподобие княгини Екатерины Дашковой во время дворцового переворота 1762 г., возведшего на престол Екатерину И, все равно оставались женщинами и по своему поведению, и по своим манерам. Никто из них не был ослеплен желанием стать мужчиной за пределами «гендерного маскарада» не на поле боя, не в дворцовых интригах, но в повседневной бытовой провинциальной жизни маленьких городов Российской империи, например, Елабуги, где так необычно должен был смотреться отставной штаб-ротмистр в офицерском сюртуке без эполет, но с Георгиевским крестом в петлице, который говорил о себе в мужском роде. Однако все окружающие знали, что на самом деле это дочь бывшего сарапульского городничего Андрея Дурова девица Дурова, писательница, чьими произведениями восхищался сам А. С. Пушкин и которую В. Г. Белинский назвал «дивным феноменом нравственного мира».
Во-вторых, в «Записках…» Дуровой перед нами предстает образец женского мемуарного текста, автор которого на протяжении большей части повествования действует на «маскулинном поле деятельности», выдавая себя за мужчину. Это обстоятельство делает необыкновенно продуктивным гендерный дискурс анализа.
В-третьих, «Записки…» Дуровой являются одновременно с этим образцом военной мемуаристики первой трети XIX в., что позволяет рассматривать их в широком контексте военной мемуарной литературы эпохи Наполеоновских войн как с русской (Ф. Глинка, И. Лажечников, Д. Давыдов, В. Штейнгель, П. Вяземский и др.), так и с французской стороны (Ц. Ложье, Е. Лабом, Ф. Сегюр, М. Марбо, А.-Ж.-Б. Бургонь и др.). В силу этого появляется возможность, отталкиваясь от мемуарного текста Дуровой, реконструировать основные черты культурно-исторического менталитета военной субкультуры эпохи Наполеоновских войн, которая не зависит напрямую от гендерной составляющей «Записок кавалерист-девицы».
В-четвертых, «Записки…» Дуровой представляют собой исключительно яркий репрезентативный материал для анализа в контексте традиции романтического моделирования действительности. Более того, они являются крайним вариантом данной традиции, когда в угоду своей концепции действительности автор позволяет себе изменять факты собственной биографии (уменьшать свой возраст, скрывать факт своего замужества и т. д.), нарушая тем самым важнейший закон существования мемуарного текста — установку на достоверность. Как писал по этому поводу М. Веллер: «…если ты взялся за мемуары — тебе никуда не деться от знания: полная откровенность — бог мемуаристики.
Мемуары — не агитка и не самореклама, но — исповедальная проза" [Веллер, с. 111].
Учебное пособие состоит из четырех глав, в каждой из которых текст «Записок…» Дуровой рассматривается с точки зрения важной для мемуарного дискурса XIX в. теоретической проблемы.
В первой главе автор ставит своей целью соотнести реальную биографию Н. А. Дуровой с текстом ее «Записок…» для выявления основных направлений моделирования ею своей мемуарной биографии. В результате происходит фактическое разрушение существующего в общественном сознании мифа о «кавалерист-девице», зато создаются предпосылки для фактического функционирования одного из вариантов «утопии как деятельности» (термин Д. В. Устинова и А. Ю. Веселовой), в которой содержанием утопии становится сам акт человеческой жизни, факт сознательного жизнетворчества, когда «человек, выработав для себя (или восприняв извне) определенные представления о системе правильного жизнеустройства, необходимого для достижения счастья, начинает целенаправленно подчинять свои поступки этим представлениям» [Устинов, Веселова, с. 79]. Нам представляется, что для передачи специфики мемуарно-автобиографического варианта «утопии как деятельности» логичнее будет использоваться термин «утопия как реальность», который означает, что утопический проект жизнедеятельности автора строится в контексте той реальной действительности, в которой он обычно живет и действует, и эта действительность под его пером становится утопией.
Если «утопия как деятельность» в идеале воплощает себя в самой жизни человека как специфическом жизнетворчсствс («селфмсйдменствс»), делании самого себя, то логично предположить, что эта утопия должна максимально выражать себя в жанре, основная цель которого и заключается в том, чтобы наиболее полно и адекватно выразить собственную концепцию бытия этого человека. По справедливому мнению О. Мамаевой, «записки… представляют собой авторское моделирование идеальной конструкции бытия, предметом конструирования становится сам автор, сознание и деяния» [Мамаева].
ю Вторая глава учебного пособия посвящена анализу своеобразия жанровой природы мемуаров Н. А. Дуровой, рассмотренных в широком контексте русской военной автодокументальной прозы первой половины XIX в. Проведенный анализ доказывает существование в литературном сознании XVIII — первой половины XIX в. двух взаимодействующих тенденций. С одной стороны, мемуарная литература испытывает влияние господствующих литературных направлений, то есть воспринимается автором как безусловная эстетическая система. В середине XVIII в. это классицизм с его «пафосом торжествующей государственности», в последние десятилетия XVIII столетия — начале XIX в. — сентиментализм, для которого характерно стремление к изображению «души и сердца своего» (термин Н. М. Карамзина). Наконец, в 20−30-е гг. XIX в. это романтизм с его традицией «романтического жизнетворчества» (термин Л. Я. Гинзбург).
В зависимости от господствующего литературного направления меняется традиция описания героев мемуарного повествования, которые изображаются то идеальными «сынами отечества» с их пафосом «торжествующей государственности», то «русскими Вертерами», то закутываются в плащ байронического героя. В последнем случае формирование эстетического идеала приобретало характер романтического моделирования действительности. Подобная ориентация мемуарных текстов на стиль текстов художественных позволила В. Г. Белинскому в 1847 г. даже называть мемуары «последней гранью в области романа, замыкая ее собою» [Белинский, т. 10, с. 316].
С другой стороны, мемуаристика проявляет определенную жанрово-родовую самостоятельность от господствующей традиции «высокой» художественной литературы, что позволяет рассматривать ее именно как образец «альтернативной» словесности. Особенно отчетливо это проявлялось в XVIII в., когда, по словам О. Чайковской, «в мемуаристике… выпрямляется униженное до тех пор достоинство человека» [Чайковская, с. 211]. Особенно ярко этот процесс находит свое отражение в языке мемуарных текстов: «Он спокоен, правдив, в нем нет напыщенности классицизма, и некоторой слезливости сентиментализма, он куда строже и проще» [Там же, с. 213]. Автодокументальные тексты в силу своей ориентации на изображение реальной действительности очень часто проявляют больше смелости в показе «правды жизни», правды голого факта, чем господствующие литературно-эстетические направления, предпочитающие эстетическое конструирование ее идеальных моделей. В этом случае мемуаристика поистине становится «своеобразной литературной лабораторией, где добывалось то новое, что затем обогащало другие жанры» [Елизаветина, 19 826, с. 163]. В случае с военной мемуаристикой правда голого факта начинает проявлять себя еще с текстов XVIII в., ориентированных на традицию сентиментализма. Она не боялась изображать те сферы действительности, которые в художественной литературе изображать было просто не принято.
Например, в «Жизни и приключениях А. Болотова, писанных им самим для своих потомков», над которыми он работал на протяжении почти 30 лет (1789−1816), созданных в сентиментальной традиции, мы уже сталкиваемся с правдой голого факта при изображении неприглядных сторон военного быта «детей Марса». Например, Болотов дает описание тела убитого неприятеля, чей обнаженный разлагающийся труп кишит червями, так что «без внутреннего содрогания» на него смотреть «было не можно» [Болотов, с. 122]. В XIX в. подобную смелость при изображении войны проявят: из художников — Василий Верещагин (картина «Апофеоз войны»), а из литераторов — Всеволод Г аршин (повесть «Четыре дня»). Оба будут работать на материале Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. Во второй части учебного пособия рассматриваются различные примеры функционирования правды голого факта в русской военной мемуаристике, посвященной эпохе Наполеоновских войн, и анализируется влияние данной традиции на развитие отечественной прозы XIX столетия.
В третьей главе книги раскрывается своеобразие гендерной составляющей мемуаров «кавалерист-девицы», рассмотренных на широком фоне женской мемуарной литературы первой половины XIX в., как русской, так и французской. В этой части учебного пособия предлагается исследование женских текстов указанной эпохи, в которых так или иначе затронуты события Наполеоновских войн (А. Золотухина, графиня С. Шуазель-Гуфье, графиня Р. Эделинг, Т. Фигёр, актириса Л. Фюзиль, герцогиня Л. д’Абрантес и др.). На основе данного исследования создается типология женского мемуарного текста, «женского письма» (термин Э. Сиксу) с характерными чертами интровертивной традиции изображения действительности. Для этой традиции важными принципами оказываются общая невписанность женщин в систему мужских служебно-государственных отношений, позволяющая им формировать у себя остраненный взгляд на события окружающей их действительности; практика героически-свободного поведения мемуаристок перед лицом сильных мира сего с тенденцией их изображения как частных лиц, вне зависимости от их подвигов на поле брани или заслуг, приобретенных на государственном поприще; оценка мужчин с точки зрения их соответствия идеалам рыцарского поведения; отражение в мемуарах «тщеславия» слабого пола всякий раз, когда женщинам удается доказать свое принципиальное равенство с мужчинами в той сфере деятельности, которая исконно считалась привилегией сильного пола; пристальное внимание к второстепенным деталям и подробностям быта, которые, как правило, не задерживаются в мужском сознании и мужской памяти. Наконец, наличие в женских мемуарных текстах свободной композиционной формы повествования, когда воспоминания строятся не по строго хронологическому принципу, как в большинстве мужских текстов, а по принципу «как вспомнилось, так и вспомнилось».
Дурова, сумев в своей литературной практике преодолеть «женское автобиографическое рабство» (термин С. Фридман), в реальной жизни так и не смогла выстроить взаимоотношения со своим собственным сыном Иваном Васильевичем Черновым. Об отношениях последнего с матерью историк последнего периода жизни Дуровой в Елабуге Ф. Лашманов рассказывал как о неком курьезе, приведя в качестве подтверждения следующий пример. Когда Иван Васильевич Чернов вырос и решил жениться, то он обратился за благословением к Надежде Андреевне, назвав ее в письме маменькой. Дурова на это письмо не ответила. Тогда в качестве посредника выступил дядя молодого человека Василий Андреевич Дуров. Он объяснил племяннику всю «неприличность» его поступка. Второе письмо Ивана Чернова, адресованное его благородию штаб-ротмистру Александрову, было встречено благосклонно. Разрешение на брак было получено.
Этот эпизод заставляет задуматься над сложностью характера «кавалерист-девицы», «сурового и непонятного», по словам С. Смирновой [Смирнова, с. 26], некоторыми чертами напоминающего синдром «людей лунного света», пользуясь терминологией В. Розанова. Тем не менее, у нас нет никаких оснований считать Дурову трансвеститом, как это делает в своем исследовании Д. Ранкур-Лаферье, только на том основании, что в своих записках Дурова переходит от самоидентификации с матерью к самоидентификации с отцом [Rancour-Laferriere, 1998, р. 464−465]. Уже в первой главе учебного пособия появится возможность убедиться в том, что сцены самоотождествления героини с матерью присутствуют, равно как и намечается мотив «осуждения» батюшки за постоянные измены метери, особенно в свете ее ранней безвременной смерти.
Четвертая глава учебного пособия позволяет осуществить психолого-литературную реконструкцию культурно-исторического менталитета людей поколения Н. А. Дуровой на основе анализа автодокументальной литературы. Термин «mentalite», обозначающий ключевое понятие, введенное в науку Л. Февром, представителем французской исторической школы «Анналов», трудно перевести однозначно. Это и «умонастроение», и «мыслительные установки», и «коллективные представления», «склад ума». Нам представляется, что понятие «видение мира» лучше всего передает смысл, вкладывающийся в этот термин, когда он применяется при изучении психологии людей минувших эпох. При подобной реконструкции мемуары начинают рассматриваться как своеобразные «окна в прошлое» (термин А. Гладкова), исторические источники, воссоздающие неповторимый аромат давно прошедших эпох через повествование о людях, живших в это время. На данный аспект исследования мемуарного текста указывал французский критик Ш. Сент-Бёв в 1856 г. при выходе в свет через сто лет после их написания мемуаров герцога А. де СенСимона: «Любая эпоха, у которой нет своего Сен-Симона, сначала кажется пустынной, и безмолвной, и бесцветной: что-то в ней есть нежилое» [Цит. по: Гладков, с. 123]. Уже в XX в. А. Гладков, доказывая свой тезис о мемуарах как «окнах в прошлое», так оценивал важность мемуарных свидетельств современников для историков: «Пушкин и Вяземский меньше знали о декабристах, чем академик Нечкина… но они все же знали о них что-то такое, что будущий историк никогда не узнает, если не осталось мемуаров. Официальные документы и дела архивных хранилищ говорят мало, иногда невнятно и часто лживо. Голос мемуаристов слышнее и разборчивее (со всеми оговорками относительно „субъективизма“ мемуариста или его ошибок). Безмемуарные эпохи (а такие бывают) кажутся нам молчаливыми, наглухо запертыми» [Там же].
Поэтому нельзя не согласиться с мнением О. Чайковской, что «мемуары дают материал для истории духовной культуры — по ним не меньше (а может быть, и больше), чем по философским трактатам и собственно литературным произведениям, можно проследить, как складывались и развивались миропонимание, мироощущение эпохи» [Чайковская, с. 210]. Необходимо добавить, что непременным условием для реконструкции этого мироощущения эпохи является использование магистрантами методики контентанализа репрезентативных мемуарных текстов, количество которых должно быть достаточным для достижения объективных результатов.
В наполеоновскую эпоху сформировался тип личности, чей культурно-исторический менталитет неизменно привлекал симпатии потомков. С. Горбачева и С. Ямщиков писали о типе человека, который сложился в 10−20-е гг. XIX в. и уже не повторялся в последующие десятилетия, «с его целостью и ясностью мировосприятия, рыцарственным служением отечеству, верностью идеалам добра и справедливости, возвышенной дружбы и поэтической любви» [Горбачева, Ямщиков, с. 361]. На основе изучения военных мемуарных источников первой трети XIX в. можно осуществить также историко-психологический анализ текста, основным результатом которого становится субкультурная стратификация, рассмотрение «исторической психологии» военной (офицерской) субкультуры Наполеоновских войн вне зависимости от национальной принадлежности представителей данной субкультуры. Являясь образцом «открытой» субкультуры, в отличие от «закрытых» «орденских» субкультур эпохи, например, субкультуры масонов, данная субкультура позволяет реконструировать основные составляющие своей психологии также с использованием методики контент-анализа. В качестве образца подобного анализа, произведенного отечественным автором, можно использовать монографию Е. Н. Марасиновой «Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века» (М., 1999).
Проведенный в учебном пособии анализ культурно-исторического менталитета военной (офицерской) субкультуры наполеоновской эпохи, в центре которого находятся «Записки…» Дуровой, позволяет выделить следующие характерные черты субкультурного мировидения: культ «ритуального буйства», культ героической Античности, воспринимавшийся в качестве основы мифориторической культуры эпохи, театрализация сферы военных действий и восприятие театра в качестве изначальной модели, по которой человек должен строить свою обыденную жизнь, фактическое стирание границ между сценой и действительностью; глорификация действительности, культ военных подвигов и военной доблести как средства достижения этих подвигов; культ чести, традиция восприятия войны как благородно-героического деяния; органическое существование рядом с культом военных подвигов и культом чести «законов сердца», законов сострадания и чувствительности.
Проведенный нами анализ дает представление о филологической составляющей того нового подхода к человеку, который был инспирирован французской исторической школой «Анналов» (Л. Февра и М. Блока). Именно сторонники данного направления впервые стали изучать ментальные представления людей той или иной исторической эпохи через систему «расширенных» исторических источников, среди которых могли оказаться данные не только археографической науки, но и лингвистики, литературоведения, социологии, культурологии. Следствием стало появление серии «Живая история. Повседневная жизнь человечества», в которой была сделана попытка воссоздания «жизни человечества» в лице его различных субкультур, от римских сенаторов и гладиаторов до космонавтов и представителей спецслужб. Эпоха Наполеоновских войн в нужном для нас ракурсе нашла свое отражение в книге Л. Ивченко «Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года» (2008). Филологический аспект этой проблемы, представленный в учебном пособии, предполагает рассмотрение вопроса культурно-исторического менталитета в неразрывной связи с филологическим дискурсом литературно-эстетических направлений данной исторической эпохи, жанровой спецификой автодокументальной литературы, своеобразием функционирования биографического метода исследования в мемуарно-автобиографических источниках.