Дополнительность и интервальность (1983)
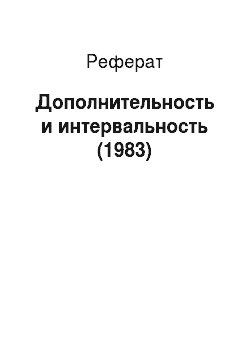
М. М. Бахтин был совершенно прав, утверждая, что «безоценочное понимание невозможно. Нельзя разделить понимание и оценку; они одновременны и составляют единый целостный акт». Что же касается объяснения, то оно безоценочно по самой своей природе… Поэтому мы полностью солидаризируемся с позицией Э. Н. Лооне, который, признавая возможность сочетания строго научных и ценностно-эстетических подходов… Читать ещё >
Дополнительность и интервальность (1983) (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Понятие «дополнительность», получившее категориальное зна чение в квантовой механике благодаря введению Н. Бором «принципа дополнительности», до сих пор сохраняет свой методологи ческий статус лишь в пределах этой физической дисциплины. Между тем известно, что и сам Бор, и другие физики считали возможным расширение сферы действия принципа дополнитель ности благодаря его применению в других областях знания. На протяжении последних десятилетий такая постановка вопроса стала завоевывать все более широкое признание как среди уче ных разных специальностей — биологов, психологов, лингвистов, эстетиков, культурологов, так и среди философов, когда они стремились осмыслить дополнительность в ее всеобщем — и онто логическом, и гносеологическом, и методологическом — значе ниях1. При этом приводились примеры из самых разных сфер природного и социального бытия, ибо оказывалось, что сущест вуют факты, получающие удовлетворительное объяснение лишь при подходе к ним с позиций основных методологических уста новок, заключенных в принципе дополнительности.
Ограничимся сейчас одним такого рода примером, едва ли не наиболее поразительным, — применением данного принципа в осуществленном К. Марксом анализе товара[1][2] (т.е. еще до открытия Н. Бора!). В самом деле, К. Маркс вскрыл антиномически-противоречивую природу товара «чувственно-сверхчувственную», поскольку он предстает перед взором исследователя как нечто двойственное: как потребительная стоимость и меновая стоимость". Причем эти его свойства обнаруживаются не одновременно, а в разных «экспериментальных ситуациях», в разных отношениях — в отношении товара к потребителю и в отношении товаров друг к другу[3].
Даже если не принимать во внимание многочисленные другие проявления дополнительности — в поведении человека, в жизни культуры, в функционировании языка, — уже на основании сопоставления квантово-механической и политико-экономической форм существования дополнительности можно заключить, что мы сталкиваемся здесь с широко распространенной модификацией диалектического закона «раздвоения единого» (В. И. Ленин); ее необходимо осмыслить, понять ее действительное место в бытии и гносеологическое значение отражающего ее принципа познания.
Внимание теоретиков до сих пор привлекала лишь та форма объективной диалектики, которая свойственна процессам развития. Однако классики марксизма понимали диалектику гораздо более широко — как выражение внутренней противоречивости бытия, сказывающейся и в простейших формах движения материи, — вспомним «Диалектику природы» Ф. Энгельса или же примеры «раздвоения единого», приводившиеся В. И. Лениным из области математики, физики, химии1. Особое значение в наше время имеет анализ диалектики функционирования как в природе, так и в обществе. Между тем если развитие действительно не обнаруживает каких-либо закономерностей «дополнительностного» характера (оттого-то философы до сих пор либо не обращали внимания на принцип дополнительности, либо готовы были объявить его вообще «антидиалектическим»!), то процессы функционирования, к которым неприменимы такие специфические законы развития, как отрицание отрицания или переход количества в качество, в целом ряде случаев могут быть объяснены именно с позиций принципа дополнительности. Дело в том, что функционирование осуществляется всегда в конкретной среде, в конкретных обстоятельствах, в конкретном отношении функционирующей системы и ее метасистемы (или подсистемы и системы, или элемента и подсистемы), т. е. в определенном «интервале»[4][5], в котором только и могут «проявиться» некие потенциально присущие объекту свойства — как, скажем, способность фотопленки фиксировать световые воздействия обнаруживается только в процессе ее проявления. Нет ничего удивительного, что изменение системы взаимодействия, т. е. данного «интервала», может повлечь за собой радикальное изменение свойств функционирующего объекта: так электрон обнаруживает в одной экспериментальной ситуации волновые свойства, а в другой — корпускулярные; так товар выказывает то потребительские, то меновые свойства; так человек выступает в одном поведенческом акте как субъект, а в другом — как объект; так личность раскрывает в разных деятельностных позициях взаимоисключающие черты характера…
Здесь-то и выясняется глубинная связь между такими явлениями, как «дополнительность» и «интервальность». Связь эта имеет изначально.
онтологический характер, а затем отражается на уровне гносеологически-методологическом. Ф. В. Лазарев и В. Н. Сагатовский, обосновывая понятие интервальности, называют «объективным интервалом» бытие, рассматриваемое исследователями в определенных ограничивающих его рамках, и соответствующую ситуацию именуют «интервальной»; она и является «объективной основой процесса абстрагирования», образующего определенный «интервал абстракции»1.
Описанное на данном уровне явление демонстрирует хорошо известный диалектике принцип «конкретности истины» и позволяет дать ему более глубокую интерпретацию. По меткому определению авторов статьи, интервальный подход ведет к «операционализации принципа конкретности истины»[6][7].
Анализ принципа конкретности истины открывает глаза на то обстоятельство, что знание, полученное при изучении функционирования объекта в определенной ситуации — в определенном отношении с другими объектами и в определенном же отношении с исследователем (его позицией, подходом, аспектом изучения, применяемым прибором, методикой, категориальной матрицей), может противоречить знанию, получаемому при изучении того же объекта в иной ситуации — в ином «интервале» — вплоть до получения взаимоисключающих характеристик. Отсюда приходится сделать вывод, что синтез различных данных, получаемых при изучении одного и того же объекта, возможен далеко не всегда — все зависит от конкретного соотношения самих экспериментальных ситуаций. Так, невозможен синтез корпускулярных и волновых параметров элементарных частиц, или объектных и субъектных параметров человеческого бытия (например, отношений врача к пациенту как к объекту исследования и как к другу). Эти свойства проявляются альтернативно и оказываются друг с другом взаимосвязанными только тем, что они принадлежат одному и тому же предмету (в приведенных примерах — электрону или индивидууму). Но именно потому, что каждое из этих свойств не имманентно данному предмету, а выявляется в его контакте с другим, свойства эти могут не быть органически взаимосвязаны, ибо не испытывают друг в друге никакой потребности.
В этом свете интервальность оказывается методологической идеей, конкретно раскрывающей необходимость вычленения, «вырезания» из континуальности бытия тех отношений между изучаемыми предметами, которые открывают некоторые их свойства, и тех отношений между этими последними и самим исследователем, которые позволяют обнаружить данные свойства. «Интервальность» есть, следовательно, более широкое понятие, чем «дополнительность», хотя, с другой стороны, содержание принципа дополнительности в одном аспекте шире содержания интервальности — он предполагает ведь и особый тип соотнесения разных интервалов для получения на этой основе новой научной информации.
Мы только что обратили внимание на наличие двух типов интервальных отношений, складывающихся в процессе познания, — отношений между познаваемым и другими объектами, с которыми он находится в некоем взаимодействии, и отношений между ними и познающим субъектом. При изучении микромира эти два аспекта сливаются, так как прибор, представляющий исследователя, и оказывается тем объектом, во взаимодействие с которым вступает элементарная частица. Существует, однако, иная элементарная ситуация, наиболее ярко проявляющаяся в гуманитарных науках. Здесь субъект познания может, а подчас вынужден, хочет он того или нет, обходиться без такого посредника, каким является в физике или физиологии прибор, т. е. искусственный объект, вводимый во взаимодействие с естественным для того, чтобы проявить те или иные свойства последнего. Ученый — и обществовед, и культуролог — должен чаще всего осуществлять познавательные действия непосредственно, оперируя теми инструментами, которые даны ему как субъекту — своими психическими «приборами» (чувственным восприятием, переживанием, воспоминанием, представлением, осмыслением, интеллектуальной обработкой).
И тогда оказывается, что перед исследователем открываются две возможности — возможность использования одних механизмов психики для подавления, оттесненения, нейтрализации других во имя преодоления собственной субъективности (личностной, национальной, классовой, исторической) и возможность целокупного использования всей своей психической активности, которая во всей ее полноте и выражает качества человека как субъекта. Так, социолог, исследующий связи известной формы поведения, скажем — антиобщественного, с условиями жизни людей, должен отвлечься от того, как он к ней относится, какие именно связи ему хотелось бы тут обнаружить, тогда как историк, описывающий возникновение и развитие некоего социального явления, например фашизма, не может и не должен подавлять свое отношение к этому уродливому социальному явлению; так, искусствовед, изучающий законы того или иного жанра — романа, симфонии, портрета, — рассматривает их с объективностью естествоиспытателя, тогда как, обращаясь к анализу конкретного художественного произведения, он не может и не должен скрывать свое восхищение или неприятие.
Сказанное означает, что отражаемое субъектом отношение «объект — объект» и отношение «объект — субъект» представляют собой две различные интервальные ситуации, находящиеся в отношении дополнительности,— ситуации гносеологическую и аксиологическую. При всей неразработанности в нашей философии аксиологической проблематики очевидным кажется различие тех позиций, в которых субъект абстрагируется от своего отношения к отражаемому или утверждает и выражает его. Речь должна, следовательно, идти не только об «интервале абстракции», но о самом абстрагировании как проявлении определенной интервальности отражения человеком действительности. А тем самым философский анализ отражения выходит на герменевтическую проблематику — реальную проблематику духовной активности человека, независимую от любых ее идеалистических интерпретаций1.
В той познавательной ситуации, которая характеризуется потребностью и способностью субъекта абстрагировать себя как субъекта (в частности, как носителя ценностного сознания) из добываемой теоретической информации, целью деятельности является получение объективной истины в любом конкретном интервале, или, как говорят науковеды, объяснение изучаемого явления[8][9].
Что же касается другой ситуации, в которой субъект неспособен или не хочет абстрагироваться от своей субъективности, то здесь роль объяснения сводится к минимуму, на первый же план выходит иной познавательный механизм — понимание. В каких же случаях исследователь не может отречься от своей субъективности? В тех, когда его познание направлено не на объект, а на субъекта, или на любое проявление субъективности — в событии, в поступке, в художественном произведении, в культуре. Применительно к искусству это прекрасно сформулировал М. М. Бахтин: «Увидеть и понять автора произведения — это увидеть и понять другое, чужое сознание и его мир, то есть другой субъект… При объяснении — только одно сознание, один субъект; при понимании — два сознания, два субъекта… К объекту не может быть диалогического отношения… Понимание всегда в какой-то мере диалогично»[10].
Эта ситуация выходит, однако, далеко за пределы литературоведения и искусствоведения. В разных областях знания познавательная деятельность сталкивается с парадоксальной ситуацией: познать нечто — значит отнестись к нему как к объекту; но если предметом познания становится субъект, то превратить его в объект — значит лишить его всех субъектных качеств! Следовательно, познание субъектом другого субъекта (и всего субъективного) должно сохранять субъектные качества последнего — его самосознательность, его свободу, его уникальность, и в то же время уметь их выявить, постичь, осмыслить. Разрешимо ли подобное противоречие?
Вот рассуждение известного советского историка: «Сознавая трудности, сопряженные с установлением диалога между людьми современности и людьми других эпох, мы не можем отказаться от попыток этот диалог завязать. Успешность таких попыток в немалой степени зависит от применяемых исследователем методов и от того, не игнорирует ли он ожидающие его опасности. Необходим такой подход к историческому исследованию культуры, при котором помехи „прибора“, то есть порождаемые современностью представления и ценности самого ученого, были бы если не сведены по возможности к минимуму, то, во всяком случае, полностью приняты в расчет: избавиться от них нельзя; кроме того, еще больший вопрос: представляют ли они собой только „помехи“ на пути познания или же вместе с тем служат и стимулом для понимания культуры прошлого?»1
Мы решились бы ответить на этот вопрос так: если историк рассматривает познаваемое им качество объекта, которому он стремится найти некое объективное же объяснение, его собственная субъективность является помехой к достижению данной цели; если же он видит в познаваемом субъекта, логику действий которого он должен понять, тогда именно и только диалог, т. е. встреча двух суверенных субъектов, способен привести к решению познавательной задачи.
А. В. Луначарский писал по этому поводу, отчетливо понимая, в частности, недостаточность чисто социологического подхода к художественному творчеству: «Стараться подвести под массовое явление Гете и Достоевского — бессмысленно… Личность есть огромной важности фактор в литературе, но…» Но в том-то все и дело, что постижение личности нужно каким-то образом соотнести с социальной реальностью, и Луначарский пытался это сделать: «…но фактор должен быть понят не как нечто чуждое социологической ткани, а как нечто вытекающее из нее, являющееся ее своеобразным порождением»[11][12]. Данный тезис вызывает, однако, вопрос: а может ли личность как уникальный субъект порождаться «социологической тканью» — ведь последняя едина, а личностей на ней вырастает множество? И правомерно ли одним и тем же методом пытаться «понять» и личность, и этот ее безликий, массовидный социальный фон? Какова при этом роль всего многообразия культуры?
Другой пример, из нашего времени, — рассуждения А. В. Гулыги о методологии гуманитарного знания. Философ определяет его как «знание о бесконечных манифестациях человеческой сущности», как «своеобразную „феноменологию духа“, утверждающего себя в мире личности, в мире истории, в мире культуры»[13].
Признавая поэтому различие между двумя типами наук, названными неокантианцами «идиографическими» и «номотетическими»,.
А. В. Гулыга решительно возражает против их противопоставления[14] и считает возможным осуществление синтетической задачи познания и воссоздания двух миров — социологического и гуманитарного — в органическом единстве"[15]. Но как достичь такого органического единства? Благодаря применению «образно-эмоциональных средств» или.
«синтеза теоретического и эстетического освоения мира»?1 Является ли, однако, соединение этих начал действительным синтезом, подлинно органическим соединением? В этом позволительно усомниться, и ни теоретические рассуждения автора, ни приведенные им примеры этого не доказали.
М. М. Бахтин был совершенно прав, утверждая, что «безоценочное понимание невозможно. Нельзя разделить понимание и оценку; они одновременны и составляют единый целостный акт»[16][17]. Что же касается объяснения, то оно безоценочно по самой своей природе… Поэтому мы полностью солидаризируемся с позицией Э. Н. Лооне, который, признавая возможность сочетания строго научных и ценностно-эстетических подходов в сочинениях историков, рассматривает их скорее как дополнительные, нежели как синтезирующиеся[18]. Ибо в интересующих нас случаях — в гуманитарных науках — сохранение познаваемого субъекта в его субъектной позиции и отношение к нему именно как к субъекту находится в отношении дополнительности к его изучению как объекта. Деятельностная реализация такого отношения есть общение, межсубъектное взаимодействие, а его условием является понимание каждым партнером другого — его интенций, устремлений, целей, его уникального характера и особого «рисунка», свойственного лишь ему свободного выбора своего поведения. Понимание, совершенно справедливо заключает В. С. Горский, «выступает результатом и в то же время существенной предпосылкой межчеловеческого общения как важнейшей характеристики человеческого бытия, человеческой деятельности»[19]. А это возможно лишь в том случае, если субъект оказывается способным поставить себя на место другого субъекта, представить себя в его позиции, т. е. идентифицировать себя с ним. Иначе говоря, понимание некоего субъективного события требует события, сочувствия, мысленного соучастия, что делает эмпатию, вчувствование, условием превращения наблюдателя изучаемого события в его воображаемого участника, — таков психологический механизм перехода с позиции «извне» на позицию «изнутри». Для этого ученому нужны особые способности, близкие к художественной одаренности, ибо в их основе лежит способность перевоплощения, способность представить себя в «воображаемых обстоятельствах», как определял К. С. Станиславский природу актерского творчества.
Но ведь не только актер — и писатель, и живописец в такой же мере — переносится в воображаемый им мир и смотрит на жизнь глазами своих героев, хотя и остается при этом самим собою. Более того, мы имеем здесь дело с диалогической структурой всякого человеческого общения, а не только общения художника со своими персонажами, ибо в реальной жизни общение людей — именно общение как взаимодействие субъектов, как диалог, а не простые коммуникативные связи монологического характера — требует восприятия другого в его уникальности и способности соотнести эту уникальность с твоей собственной, а это и есть не что иное, как понимание. В научном Познании дело может складываться аналогичным образом, и тогда оно основывается на понимании, а не на объяснении.
Различие этих двух ситуаций не в том, что культура как предмет познания отличается от природы как предмета познания (так полагали неокантианцы), не в том, что «природу мы объясняем, человека мы должны понимать» (так утверждал В. Дильтей), а в том, что человек, культура, а в определенных обстоятельствах и природа могут восприниматься нами и как объекты, и как субъекты или субъективированные объекты (ценности), и оттого во многих областях знания становится необходимой дополнительность объяснения и понимания. Историк, этнограф, искусствовед в одних познавательных ситуациях может и должен объяснять, а в других — понимать и интерпретировать. В этих последних случаях его позиция оказывается как бы промежуточной между положением участников реального общения и художника, общающегося с воображаемым и им самим создаваемым героем: партнер ученого-гуманитария абсолютно реален, но, как правило, уже не существует и предстает перед исследователем только как воссоздаваемая его воображением модель данной личности (социальной группы, явления культуры); потому понимание ученого-гуманитария не тождественно художественному переживанию, не говоря уже о том, что ученый должен осмыслить, вербально осознать и сформулировать это свое понимание. Иными словами, понимание оказывается необходимым инструментом познания в том интервале, в котором предметом познания является не объект, а субъект, т. е. тогда, когда познавательная ситуация оказывается в отношении дополнительности к ситуации познания объективных закономерностей той же социокультурной реальности.
Распространение действия принципа дополнительности за пределы микромира должно иметь ту методологическую предпосылку, что в других сферах бытия этот принцип не может не проявлять себя специфическим образом и что поэтому нельзя абсолютизировать те его особенности, которые присущи ему в квантовой механике. В сфере социокультурной принцип дополнительности должен иметь какие-то специфические черты, а при его обобщающей философской характеристике нужно отвлечься от тех индивидуальных отличий, которые присущи ему как в квантово-механической, так и в социокультурной областях, и тем более — в конкретных сферах политической экономии, лингвистики, психологии и т. п. Но в таком случае возникает вопрос: а что является инвариантным и что, — вариативным в методологической программе, именуемой «принципом дополнительности» в общефилософском масштабе этого понятия?
юо Мы уже обращали внимание на то очевидное обстоятельство, что роль прибора специфична для изучения поведения элементарных частиц и что в гуманитарных науках аналогичную роль играет ценностное сознание ученого, его идеологические позиции, его мировоззрение; можно предположить, что в психологических исследованиях такое же «отклоняющее» действие имеет тест, вопросы которого (или иные предлагаемые им задания) направляют в определенное русло работу психики исследуемого индивидуума. Отсюда следует, что инвариантным для принципа дополнительности является неустранимое в данном интервале вторжение познающего субъекта в добываемую им информацию, в какой бы форме и каким бы конкретным способом оно ни происходило, тогда как другие методологические процедуры предполагают очищение получаемого знания от «шумов» субъективности (скажем, математического знания).
Факультативным же признаком принципа дополнительности нужно признать количество тех интервалов, в которых обнаруживаются дополняющие друг друга свойства исследуемого объекта. В квантовой механике этих интервалов два, что и породило формулу «корпускулярно-волновой дуализм». Должна ли, однако, сохраняться бинарность характеристик во всех других случаях? Существуют ситуации, например ролевые проявления поведения личности, когда изучаемый объект (в данном случае — конкретная личность) выступает не в двух, как элементарная частица микромира или как товар, а в множеств функциональных отношений, и в каждом из них обнаруживает не только различные, но и противоположные, взаимоисключающие свойства, например мягкость и податливость в семейных отношениях, решительность и жесткость в служебных делах, сентиментальность в художественных вкусах, эгоистическую ориентированность в дружеских связях, нежность и альтруизм в отношениях с животными… По-видимому, такая множественность ипостасей личности связана с тем, что данная система значительно более сложна, чем электрон или товар, отчего и количество степеней свободы в ее поведении куда больше, а значит, на несколько порядков больше число ее свойств и возможность ее «оборачивания» в различных функциональных ситуациях (вспомним знаменитую формулу Ф. М. Достоевского «Широк человек!»).
Только с этой точки зрения можно признать правомерным применение понятия дополнительности в лингвистике, культурологии, искусствознании, эстетике — ведь картина мира, описываемая каждым национальным языком, образ мира, создаваемый каждым художественным стилем, содержание каждого типа культуры относятся ко многим другим картинам, образам, содержаниям именно как дополнительные и потому адекватно не переводимые ни на один другой язык, стиль, культурный «код», а значит, в принципе равноправные другим языкам, стилям, культурам, как равноправна каждая уникальная личность всем другим личностям.
Но в этой связи встает вопрос и о том, является ли непроницаемость корпускулярных и волновых параметров элементарных частиц общим законом всех дополнительных ситуаций. Видимо, нет. Скорее, следует предположить, что и тут все дело в характере исследуемой системы: чем она проще, чем механичнее ее устройство, чем полнее ее переключение из одной функциональной ситуации в другую, тем более замкнуты, автономны, непроницаемы свойства, обнаруживаемые ею в каждой из этих ситуаций; и напротив, чем система сложнее, чем органичнее связи между различными ее подсистемами, тем меньше степень самостоятельности, автономности, суверенности каждой сферы ее действия. К примеру, мебель или одежда предстает в разных функциональных позициях, если каждая из них проявляет максимально независимые друг от друга свойства: скажем, зонт, служащий для укрытия от дождя, превращается в трость, на которую можно опираться при ходьбе, кресло преображается в кровать, утепляющий шарф — в декоративную деталь платья, и т. д. Очевидно, что декоративные и утепляющие свойства шарфа никак не зависят друг от друга, равно как эффективность зонта-трости или кресла-кровати в каждом из их функциональных отношений.
Иное дело — личность, духовный мир которой, психология и поведение обладают высочайшей степенью целостности и потому взаимозависимостью различных подсистем, ипостасей, функциональных проявлений. Поэтому ролевая теория личности оборачивается метафизической, механистической трактовкой человеческого сознания и поведения, когда она абсолютизирует самостоятельность каждой «роли», так же как теория «локальных цивилизаций» (шпенглеровского типа) абсолютизирует непереводимость каждого типа культуры на «язык» других культур. Гипотеза Сепира — Уорфа аналогичным образом трактует самостоятельность всех словесных языков, как и вельфлиновская теория стилей — «закрытый» характер каждой художественно-творческой системы. Однако альтернативой такой метафизичности не должно быть столь же метафизичное пренебрежение уникальностью каждого стиля, каждой культуры, каждого языка, как и автономностью всех «позиционных» свойств личности — ее «социальных ролей». Диалектическая интерпретация поведения этих сложных и сверхсложных систем состоит именно в том, чтобы видеть специфичную для каждой из них меру независимости и меру взаимосвязанности тех свойств, которые взаимодополнителъны в силу интервалъности их происхождения и проявления.
Это означает, что положение, зафиксированное квантово-механическим принципом дополнительности, нужно считать предельным, равно как и то, которое описывается теорией стиля культуры, обобщающего частные стилевые характеристики всех ее подразделов — искусства, науки, философии и т. п. Между этими крайними ситуациями с выраженными свойствами целостности, в одном случае, и полной самостоятельности частей, в другом, располагается широкий спектр систем, в котором соотношение и удельный вес данных свойств изменяется, но оба свойства оказываются необходимыми и дополнительными по отношению одного к другому; именно поэтому в том или ином интервале абстракции одно из них может быть выявлено за счет другого, отвлечено от другого и казаться исследователю единственным, если он забывает об интервальном характере самой познавательной процедуры.
Такой представляется нам — в первом приближении — характеристика принципа дополнительности, взятого в его философском, а не квантово-механическом, масштабе, и связь между дополнительностью и другим важным диалектическим принципом — интервальностью.
- [1] См.: Материалистическая диалектика и концепция дополнительности / Отв. ред.Н. П. Депенчук. — Киев, 1975; Принцип дополнительности и материалистическая диалектика / Отв. ред. Л. Б. Баженов. — М., 1976; Хютт В. П. Концепция дополнительностии проблема объективности физического знания. — Таллин, 1977; Алексеев И. С. Концепция дополнительности: Историко-методологический анализ. — М., 1978, и др.
- [2] См.: Алексеев И. С., Бородкин Ф. М. Принцип дополнительности в социологии //Моделирование социальных процессов / Под ред. Э. П. Андреева, Ю. Н. Гаврилова. —М., 1970. — С. 47.
- [3] См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 23. — С. 50, 56, 81; Т. I, ч. II. — С. 394.
- [4] Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. — С. 316.
- [5] См.: Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Структура познания и научная революция.Гл. 2. — М., 1980.
- [6] Лазарев Ф. В., Сагатовский В. Н. О формировании «интервального» стиля мышления // Философские науки, 1979. — С. 69.
- [7] Там же. — С. 71.
- [8] См.: Гайденко П. П. Герменевтика и кризис буржуазной культурно-историческойтрадиции // Вопросы литературы, 1977, № 5; Горский В. С. Историко-философскоеистолкование текста. — Киев, 1981.
- [9] См.: Никитин Е. П. Объяснение функции науки. — М., 1970.
- [10] Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 289—-290.
- [11] Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. — М., 1972. — С. 18—19.
- [12] Луначарский А. В. Этюды критические и полемические. — М., 1905. — С. 4—5.
- [13] Гулыга А. В. Эстетика истории. — М., 1974. — С. 35.
- [14] Там же. — С. 22.
- [15] Там же. — С. 36.
- [16] Там же. — С. 9, 64—65, 85, 93.
- [17] Бахтин М. М. Указ. соч. — С. 346.
- [18] Лооне Э. Н. Современная философия истории. — Таллин, 1980. — С. 84—85,129—135, 198.
- [19] Горский В. С. Указ. соч. — С. 47, 52.