Онтологические и культурантропологические основания феномена жертвенности в контексте генезиса символа судьбы
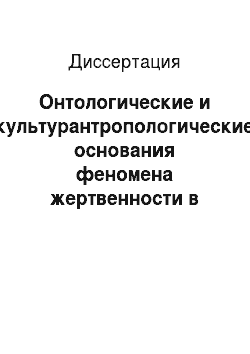
Следовательнолюбой социокультурный порядок носит неподлинный, отчужденный характерно — благодаря этому, существует и возможность «обратного движения», дающая жертве, право голоса и через сопротивление безличным социальным порядкам изменяющая мир (вариацией этого тезиса будут и вопросы: кто говорит от имени Жираракак возможна метапозщия, выскользнувшая из-под власти структуры замещенияв конце… Читать ещё >
Содержание
- Введение 1 Раздел 1. Культурантропологнческие основания жертвенного акта и генетические экспликации символа судьбы 17 Предварительные замечания: антропологические основания опыта судьбы
- ГЛАВА.
- 1. 1. Проблема сакральных истоков быпш человека в европейской философии
- 1. 1. 1. Платон: Эрос — демоническая энергема бытия
- 1. 1. 2. Эрос, жертва и ритуал
- 1. 1. 3. «Миры, состоящие из людей»: взаимодействие культурантропологических и философских практик. Предмет культурной герменевтики
- 1. 1. Проблема сакральных истоков быпш человека в европейской философии
- 1. 2. 1. Генезис «священного»: ритуально-социологические аспекты
- 1. 2. 2. Концепция К. Леви-Стросса: структура и событие
- 1. 3. Деструкция человеческого существования в контексте теории «жертвенного кризиса» Р. Жирара
- 1. 3. 1. «Жертва отпущения» как событие: игра структуры
- 1. 3. 2. «Мимесис присвоения» и «мимесис ритуальный»: версия антропогенеза
1.3.3. «Страсти Господни»: десакрализация насилия 122 Раздел 2. Онтологические основания феномена жертвенности и генезис символа судьбы 128 Предварительные замечания: ннтроекция жертвенного акта как способ индивидуации и археология судьбы в поэтике Гомера
Глава
2.1. Психоаналитическая структура жертвенности
2.1.1. К фрейдовской теории виновности, или, «возвращение вытесненного» как онтологическая основа жертвенности
2.1.2. Событие утраты в теогонии Гесиода
2.1.3. Концептуализация жертвы Ю. Кристевой: Эрос-как-токос и фигура материнского
Глава
2.2. Генезис символики судьбы в контексте «трагического»
2.2.1. Убить Эдипа/простить Эдипа
2.2.2. Опустошение сакральности в поэтике Ф. Гёльдерлина
2.2.3. Жертвенность как символический обмен: Ж. Бодрийяр 236
Заключение 246 Библиографический
список
Онтологические и культурантропологические основания феномена жертвенности в контексте генезиса символа судьбы (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Актуальность исследования. Одним из ключевых культурных символов не только европейской, но и других цивилизаций, является символ «жертвы», с которого, как правило, начинается процесс мифотворения Мира и который, в свою очередь, поддается реконструкции на материале почти всех известных нам архаических культур. На заре развития культуры, метафорически объясняя происхождение всего сущего, древний человек воспринимает «мир» как нечто рожденное из тела «первожертвы» (Пуруши — в древнеиндийской мифологии, Паньгу — в древнекитайской, Имира — в скандинавской, Тиамат — в вавилонской, Диониса — в древнегреческой и т. д.), из органов которого возникают пространства космоса, неба и земли, вселенская душа, человеческие расы, общественные классы и многое другое. Таким образом, то, что исследователи называют «субстанциальным элементом мифа, собственно первомифом, выражающим архетипическое ядро доисторической картины мира"1 является не чем иным, как рефлексией первичного акта «жертвенности», лежащего в основании первых сотворенных человеком образов процесса космои антропогенеза. Наиболее же существенной функцией этого процесса в рамках мифологического мировоззрения считается расчленение «первоединого», разъединение его на части, одним словом — трансформация исходного состояния, — символизирующая переход от единой целостности к множественности «мира», в результате чего возникают основные элементы социальной и космической организации — место спасения и людей, и богов от аморфного и косного хаоса.
Нужно ли говорить об особом значении «жертвы» в христианском миропонимании, в центр которого положен образ Троицы — символическая формула ипостасей священного, — жертвы-сына и жертвователя-отца, соединенных приношением-снятием священного духа"? В христианской традиции истолкование жертвенности включает в себя не только процессы творения и спасения космоса, но и указывает на некое духовное вызревание личности посредством внешней и внутренней аскезы, без которой нет единения человека и бога. Однако задолго до христианского «попечения о душе» существовала античнаяпрактика самопонимания, вписанная в известный дельфийский принцип «познай самого себя» и реализованная в максиме становления себя «другим» и у орфиков, и у Пифагора, Сократа, Платона, Аристотеля, а также в стоицизме, кинизме, эпикуреизме, в неоплатонизме и других — вплоть до александрийской школы, — несомненно, инвестировавшая нравственные, гуманистические идеалы и ценности всей последующей истории европейской культуры. В частности, эту проблему решал и Фуко в поздний период своего творчества, нарекая «духовностью» все то, что способствует поискам, практике и опыту, посредством которых субъект производит в самом себе изменения, необходимые для того, чтобы получить доступ к истине. Особенностью же этого доступа является, по выражению Фуко, «цена», которую субъект должен заплатить в качестве риска своего существования, ведь, считается, что истина «стоит того», и только так — через жертву — производит эффект «обратного действия» на человека. В исторической динамике субъективности как наслоении трансформаций, в результате которых человеку становится доступным и опыт «истины», и опыт «лжи», в качестве проблемы условий и границ преобразования самого субъекта проявляется и онтологический срез феномена жертвенности.
С другой стороны, в контексте антропологической сферы, знания проблема «жертвенности» эксплицируется как поиск оснований, позволяющих состояться процессам трансформации «мира», актуальность выявления которых можно проиллюстрировать, так называемой «конверсивной» проблематикой, активно осваиваемой различными областями современной гуманитаристики. В свое время П. Адо зафиксировал феномен конверсии как одну из существенных сторон истории европейского сознания, обнаруживающий себя в виде постоянно возобновляемых усилий для совершенствования техник, приемов, практик, предназначенных для преобразования человеческой реальности — либо приводящих ее к первоначальной сущности, либо радикально ее изменяющих4. Этнология и психоанализ, структурализм и культурная антропология — все по-своему решают один и тот же вопрос: где истоки человеческой способности к конверсии? Если в решении этого вопроса взять за точку отсчета проблему генезиса культуры и «человеческой природы», то архаика в качестве «фундаментальной этнографической реальности» (Жирар) засвидетельствовала как наиболее эффективное средство против старения и саморазрушения общества необходимость ритуальной практики обмена с богами, средоточием которой и являлся феномен жертвенности.
Возможно, стоит приглядеться к нему внимательнее — феномену, лежащему как в основании динамики субъективности, так и у истоков существования антропологической реальности? Может быть, также не случаен и тот факт, что «жертва» — это всегда метафорическая фигура, всегда «утраченный объект», исключительная особенность которого заключается в том, что он повествует о сущности самой утраты, — возможно, тем самым, рассказывая нечто фундаментальное о судьбе нашей культуры? Во всяком случае, есть некая взаимообусловленность в этой символической цепочке: судьба — жертва — человектак попробуем ее истолковать, ведь ради этого и существует «грандиозная неопределенность» (З.Фрейд) мифов и символов — лучшая «пища для размышления» (П.Рикёр).
Актуальность данного исследования и состоит в разработке подхода, который позволил увидеть природу феномена жертвенности в единстве его онтологических и культурантропологических составляющих — в стихии исторической динамики социокультурных образований и становления способности индивида к самоопределению, что, в свою очередь, заложило основы тематизации и символической фигуры «судьбы», присущей практически всем развитым культурам человеческой цивилизации.
Степень теоретической разработанности проблемы. Первым, кто обратил внимание на проблему «механизма по производству трансценденции», был /7лшлон: дискурс знания, с точки, зрения классика философской традиции, не может состояться без дискурса желания, — без устремления, которое «все люди зовут Эросом». Именно эта ситуация созревания к знанию интересует в первую очередь Сократа, когда он настаивает на необходимости познания внутреннего мира, имплицитно содержащего в себе отсылку к ритуальным предписаниям правильного общения с богами. Поскольку опыт, формирующий позицию субъекта в культуре, обозначился как ритуал, постольку основная проблема, вокруг которой организуется теоретический потенциал европейской мысливысветилась как взаимодействие субъекта и егоритуально формирующегося то noca, посредством которого происходит его становление в мире.
В рамках новоевропейской культуры, по-видимому, один из первых, кто поставил вопрос об «опустошении» этого сакрально-ритуального пространства «взаимодействия с богами», в результате которого человек утратил «живую связь» с природой и окружающими его людьмибыл Ф: Гёльдерлин. Вследствие этого весьма симптоматичным выглядит факт обращения современной • гуманитарной мысли к исследованию таких феноменов как миф и ритуал, которые из «форм архаического сознания» постепенно «переросли» в способы самоутверждения и самораскрытия оснований, на которых держится опыт восприятия и существования человеческой реальности. «Священное» и «божественное», в свете наук о религии, перестали быть фантазмом, суеверием, рудиментом эпох «дикости», а также жупелом свободомыслия: оказалось, за ними скрываются реальные силы социальной организации, присущие не только примитивнымно и развитым обществам.
Предметный регион таких наук, как культурантропология и этнология начал оформляться еще с середины XIX века и складывался, в частности, благодаря стремлению ученых объяснить феномен «священного», — прежде всего, истоки таких форм сознания и культуры как «миф» и «религия», — «антропологически», то есть как естественно спонтанный процесс эволюции «природы» человека, причем, наблюдаемый, и опытным путем проясняемый в ходе сравнительного анализа истории культур различных народов. В этом движении мысли в начале XX века одно из доминирующих положений начало занимать ритуально-социологическое направление в изучении архаических культур, сыгравшее важнейшую роль не только в антропологии и этнографиирезультаты его исследований свободно ассимилировались с самыми разными сферами современного гуманитарного знания: от психоанализа и сравнительного литературоведения до лингвистики и структурализма.
Родоначальником доктрины ритуализма принято считать Д. Фрэзера, вслед за У. Робертсоном-Смитом выдвинувшего тезис приоритета ритуала над мифом, что послужило также основанием для возникновения «Кембриджской школы» (Д.Харрисон, Ф. М. Корнфорд, А. Б. Кук, Г. Мэррей, Б. Малиновский и др.), представители которой исследовали ритуал в качестве источника становления различных форм культуры. Открытая Фрэзером «ритуалема» праксиса периодически умерщвляемого и замещаемого «царя-колдуна», ответственного за всеобщее благополучие общины (так называемые, «царские ритуалы») впоследствии становится одним из центральных элементов мифоритуальной структуры в интерпретации генезиса архаических форм сознания.
Но уже очень скоро начинают преобладать взгляды, изживающие представления о мифе как «рефлексе обряда», во многом инициированные работами основателя английской функциональной школы культурантропологии, Б. Малиновского, и основателя французской социологической школы, Э. Дюркгейма, подчеркивающие значение ритуала в качестве динамической фигуры социальной жизни, посредством которой происходит интеграция и стабилизация социальных образований, а также снятие напряженности в обществе. Именно Э. Дюркгейм вводит понятие «сакрального» — социального начала в человеке, утверждающее и полагающее в него реалии общественной жизни, пространство и время коллектива, являющееся к тому же и «высшей реальностью» человека, продуцирующей интеллектуальные и моральные ценности культуры. Отсюда, и знаменитый тезис Дюркгейма о том, что в религии общество само себя воспроизводит и обожествляет.
К середине прошлого столетия эти взгляды обогащаются влиянием концепции культурантрополога М. Мосса о с им вол и ческом характере социальных структур и принципе коммуникативного обмена, на котором они держатся, впоследствии дополненной грамматикой символических обменов в структурно-логической сфере, предложенной К. Леви-Строссом. Если ритуально-социологическое направление связывает ритуал с социальными структурами, которые становятся организующим принципом восприятия мира, то структурализм, проецируя эти институты на мыслительные операции, исследует логическое строение мифосозиания, не затрагивая области его конститутивных содержаний, в результате чего ритуальную практику жертвоприношения Леви-Стросс толкует как «ложный институт», поскольку в эпистемологическом плане он ничего не I наращивает в культуре.
Проблема «ритуала», средоточием которого являются жертвенные акты, отнюдь не случайно оказавшись в фокусе внимания современных мыслителей, послужила отправной точкой теории Р. Жирара, имеющей показательный для антропологии второй половины XX века синтетический характер, выраженный в органичной экстраполяции результатов этнологических исследований в область философской антропологии. Жирар исходит из коммуникативной модели человеческой реальности, основанной на «механизме жертвы отпущения», через который общество не только «само себя лечит», но и создает культурные и социальные ценности. В то же время, понимание Жираром религии как развития феномена «сакрального», на самом деле является достаточно типичным для многих современных концепций, например, М. Элиаде, создавшего вариант философской антропологии как «архаической онтологии» (религия, по его мнению, выражает, прежде всего, опыт «священного», связанного с идеями существования, значения и истины). Из «последних» — можно упомянуть «нуминозную» интерпретацию мифа К. Хюбнером, толкующего миф в духе социально-исторической онтологии, как особую форму, пронизывающую собой в той или иной степени все иные культурные образования человеческой жизни. Из отечественных мыслителей назовем И. Т. Касавина, также определяющего религию через опыт нуминозного, который, однако, в отличие от немецкого мыслителя, интерпретируется на почве ритуально-социологического подхода с привлечением понятия «архетипа» психоанализа К.Юнга.
Р.Жирар в религии обнаруживает способ «утаивания» и вытеснения коллективного насилия, на котором зиждется «царство человека», в результате чего можно сказать, что его концептуализация сакрального движется в русле традиции «философии подозрения» {Маркс, Ницше, Фрейд), оспаривающей претензии классической идеи человека как полагающего самого себя и предписывающего смысл миру автономного субъекта. Жирар движется в том же направлении, что и С. Вейпь, М. Фуко, П. Рикёр, осваивающие пространство археологии субъективности и выстраивающие конструкции такого опыта, который позволяет человеку не только состояться, но трансформировать себя в позиции «узаконенного» культурой субъекта.
Здесь и обозначилось проблемное место генеалогии субъективности, побудившее, к примеру, М. Фуко сменить ориентиры исследовательской деятельности. Как и Р. Жирар, первоначально Фуко рассматривает вопрос о производстве субъекта «практическим образом», то есть, отправляясь от изучения истории культурных институтов, которые превратили автономного субъекта в «объект подчинения» при помощи различных социальных технологий. Однако отсюда невозможно было понять, насколько «схемы поведения, мыслей, чувств» были определены самим субъектом и каким образом они в его глазах обретали ценность в качестве культурного предписания? В отличие от Жирара, Фуко, в конце концов, приходит к неизбежности введения в теоретическое поле исследования субъекта, помимо «техник подчинения», так называемых, «техник себя», которые позволяют индивидам самим осуществлять процедуры фиксирующие, сохраняющие и изменяющие их идентичность. Так же и Рикёр, стремясь вскрыть археологию субъекта, вынужден редуцировать аналитику природы человека к артефактам сознания для реконструкции исходных желаний и влечений индивидуального «Я» — ради герменевтического истолкования (в ситуации «выбора, усилия и согласия» воли) и уяснения форм их сублимирования в культуре. Таким образом, усиление и обострение проблематизации субъективности возвращает современную мысль к «архаике» — переосмыслению истоков человеческой культуры и цивилизации ради понимания судеб и дальнейшего пути требующего «жертв» современного мира.
В целом, можно заметить, что в отношении феномена жертвенности в философской литературе — как зарубежной, так и отечественной, -преобладают культурологические и антропологические экспликации, базирующиеся на достижениях различных областей гуманитарного знания: культурной антропологии и структурализма, этнографии, этнологии, сравнительного литературоведения и искусствознания, и др. Из отечественных мыслителей, так или иначе затрагивавших проблему жертвенности в ходе решения различных конкретно-научных и культурфилософских задач, стоит упомянуть работы Вяч. Иванова, В. Н. Топорова, Е. М. Мелетннского, В. П. Горана, А. В. Ахутина, А. В. Семушкина, Е. А. Нагшана. Стоит отметить и работы, курсирующие в направлении обоснования онтологических истоков жертвенного акта: в контексте поиска психоаналитических структур жизненного мира человека — это труды З. Фрейда, Ж. Лакана, Ю. Кристевощ в ракурсе понимания жертвенности как символического акта — работы Ж. Бодрийяра, в контексте проблемы «трагического» — исследования Ф. Лаку-Лабарта, П. Зонди и др.
Постановка проблемы исследования. Уже мифологическая разработка темы жертвы отсылает к некоему первоистоку, к исходному началу, соединяющего человека с тем, откуда он впервые появился как человеческое существо и что постоянно его поддерживает и питает в способности жить в равновесии с миром людей, космосом и богами. Отсюда, становится объяснимым рассмотрение феномена жертвенности в теснейшей связи с историко-генетической проблематикой, включающей в свою орбиту вопросы происхождения «человеческого» и «культуры», начал «мира-истории», особым случаем переплетения которых в пространстве европейской цивилизации стала, по нашему мнению, символическая фигура «судьбы» и в трагически конфликтном зазоре смысловых составляющих которой нашел выражение опыт становления истории как жертвенной динамики конверсивной практики сознания и бытия «культурного человека». Жертвенный акт выражает собой не что иное, как организующее пространство исторической трансценденциипространство сакральных преобразований, в которые втянут человек, чтобы состоялся его опыт как существа «человеческого», в том числе и как опыт «судьбы». Что понуждает человека к жертвенности? И если в ней, как в некоем тигле, плавится «человечность» человека, то какие силы запускают этот механизм и что, все-таки, заставляет человека включаться в этот процесс «переплавки»? Поскольку центр тяжести переносится с вопроса функционирования символики судьбы в культуре на вопрос о её производстве (а именно: какова движущая сила порождающих её значений?), постольку главной проблемой нашего исследования стали поиски истоков и оправдание жертвенного акта как константного условия преобразования и трансформации культурно-исторического мира.
Цель и задачи исследования
Через экспликацию онтологических и антропологических оснований «жертвенного акта» построить критическую аналитику культурного опыта, выражающего и формирующего условия и границы трансформации субъекта истории.
Достижение поставленной цели предполагает постановку следующих задач:
1. Исследовать архаико-культурное и религиозно-мистериальное содержание жертвенного праксиса. Раскрыть феномен «сакрального» бытия человека как структурно-мифологического выражения жертвенного акта в истории (морфология «эроса» и «ритуала»).
2. Раскрыть и обосновать перспективы и границы дополнительности этнографических, культурантропологических, социологических и философских «технологий» в отношении рефлексии «природы» и «истории» человека.
3. В контексте проблемы генезиса архаических форм сознания («мифа» и «ритуала») критически рассмотреть ритуально-социологическое и структуральное направления в истории антропологического знания. В процессе анализа истоков социокультурной динамики истории раскрыть методологический и эвристический потенциал теории «жертвенного кризиса» Р.Жирара.
4. В ходе критического рассмотрения различных теоретических моделей конституирования структуры человеческого бытия выявить и сформулировать онтологические и культурно-антропологические основания проблемы «жертвенности».
5. Рассмотреть социо-антропогенетические и онтологические истоки символики судьбы на примере анализа феномена «трагического». Зафиксировать онтологические и культурантропологические основания феномена жертвенности в контексте генезиса символа судьбы в истории европейской цивилизации.
Объектом исследования является сакральное бытие человека, в центре которого находится феномен жертвенности в качестве истока символического мышления.
Предметом исследования выступает генезис символа судьбы, конституирующий структуры специфического человеческого опыта, основанного на вытеснении жертвенных механизмов и, тем самым, формирующий историю субъекта в культуре.
Методологическая основа исследования. В соответствии с перечнем сформулированных задач в работе используются следующие методы:
1. Метод культурной герменевтики. Данная методология разработана на основе «регрессивно-прогрессивной» методологии П. Рикёра, в центре которой идея соотношения полярных технологий исследовательских практик, при строгом учете и фиксации границ их применения (например, фрейдовского метода регрессии как археологии субъекта и гегелевского метода прогрессии как телеологии субъекта). При анализе динамики культурных явлений (мифосознания, ритуалов, символов) исходным стало соотнесение объективного понимания структур человеческого опыта, реализованного в аналитико-генетической традиции культураитропологии (ориентиром движения мысли в данном направлении послужила «фундаментальная антропология» Р. Жирара) а «экзистентного» понимания, или, процедур герменевтического истолкования, сфокусированных в сторону самосознания как истока динамики смыслов культуры (где упор сделан на философские традиции герменевтики субъекта культуры, прежде всего, М. Фуко и П. Рикёра).
2. Психоаналъапическая традиция исследования «вытесненных» форм сознания. В частности, открытая З. Фрейдом, и переформулированная Ж. Лаканом в рамках экзистенциально-феноменологической аналитики негативности" конститутивная структура человеческого опыта -«возвращение вытесненного», — была использована в ходе анализа процессов формирования субъективности при эксплицировании онтологических оснований феномена жертвенности.
3. Компаративистский анализ. Этот метод позволил корректно формулировать проблему жертвенности относительно различных срезов предметной сферы исследования в ходе анализа подходов, теоретических моделей, концепций, выявления достоинств и слабых мест их обоснования и аргументации.
Новизна исследования. Впервые в отечественных исследованиях:
1. Сформулированы основные положения теории, объясняющей феномен жертвенности в единстве его онтологических и культурантропологических составляющих.
2. В ходе определения предметности культурной герменевтики, сочетающей способы изучения причин, факторов, механизмов становления и распада социокультурных явлений и способы самосознания смысла и истоков исторического бытия человека, обоснован и теоретически развернут принцип дополнительности конкретно-научного и философского знания в области антропологических исследований.
3. Систематизирована история исследований проблемы генезиса «мифа» и «ритуала» в контексте идеи жертвоприношения как несущем каркасе формирования структур сакрального опыта, установлены границы применения методов структуральной антропологии и ритуально-социологического подхода к анализу семантики архаических форм сознания.
4. Показан эвристический потенциал методологических и содержательных аспектов теории Р. Жирара в качестве версии антропогенеза, акцентирующей «механизм жертвы отпущения» и состояния «жертвенного кризиса» как движущие силы истории, определены перспективы данной теории в выработке подходов к сфере археологии генезиса феномена и символики «судьбы».
Положения, выносимые на защиту:
1. Выявлено, что ритуально-жертвенная структура «эроса» как силы влечения индивида, преобразует естественно-витальную природу живого существа в социокультурные формы сознания и акты обеспечения истории, проясняющие специфику сакральной сферы бытия человека.
2. Показано, что онтологические основания феномена жертвенности, встроенного в генеалогию субъективности как символического акта, инсценируют хроносмысловые аспекты события «утраты» и его «возмещения» (репарации), организующим принципом которых, в свою очередь, является праксис матрицида.
3. Обосновано, что в качестве истоков символа судьбы в культуре выступают механизмы динамики антропологической реальности как циклотимично осциллирующей системы, замещающей феномен взаимного насилия актуализациями «сакрального» (социо-генетический аспект).
4. Доказано, что структура процесса индивидуации, экзистирующая как стремление к «цезуре» — разрыву в циклотимическом чередовании, -формует способности человека к самоопределению и духовному преобразованию (онтологический аспект).
5. Показано, что в ситуации усиления и обострения проблематизации субъективности, способы истолкования инвестированных жертвенным актом социальных и культурных «смыслов» в природу «человеческого», позволяют подойти не только к решению генеалогии символики «судьбы» и феномена «трагического» в культуре, — но и намечают перспективы переосмысления истоков человеческой культуры и цивилизации.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования:
1. Работа вносит вклад в развивающуюся тенденцию современного гуманитарного знания, направленную на взаимодействие философской рефлексии и конкретно-научного знания, в частности, добытого культурной антропологией, структурализмом, этнологией в объяснении истоков мифа и ритуала как естественно спонтанного процесса становления реалий самого человека. В этом отношении показательна актуализация данным исследованием в отечественной философской литературе теоретического освоения творчества Р. Жирара, существующего на стыке предметностей социокультурной и философской антропологий.
2. В отношении проблемы производства символического мышления данное исследование, показывая несостоятельность ритуально-социологического и структуралистского подходов, обосновывает перспективы развития традиции герменевтики субъекта культуры, реализованной в творчестве П. Рикёра и позднего М.Фуко.
3. В ходе теоретической реконструкции процесса антропогенеза заложены основания нового прочтения процесса происхождения и организации форм человеческого опыта и социальных технологий истории.
4. Содержание исследования позволяет задать онтологические параметры феномена жертвенности в качестве способа реализации символического акта, тем самым активизируя проблематику «фатальных стратегий» европейской культуры в способах формирования субъективности и предлагая развитие психоаналитической традиции в ее постлакановской форме.
5. Проект, реализованный в работе, предлагает новый взгляд на методы исследования феномена жертвенности как некоего социально-генетического кода развития антропологической реальности, конституирующего онтологическую структуру человеческого опыта, что является продуктивным в качестве концептуального инструментария в области постметафизического пространства современной философии, широко экстраполирующего в предметную сферу философии культуры и философской антропологии достижения научных гуманитарных исследований.
6. Результаты диссертации могут быть использованы в качестве теоретической и методологической базы исследований специалистов, научных работников, философов, изучающих проблемы онтологии, философской антропологии и философии культуры, а также в практике гуманитарного образования, как для преподавания историко-философских дисциплин, так и систематических учебных курсов для студентов и аспирантов философских специальностей. В частности, на историко-философском факультете Гуманитарного института Сибирского федерального университета результаты настоящего диссертационного исследования были использованы при подготовке таких курсов, как «История, зарубежной философии: Античная философия», «История зарубежной философии: вторая половина XX века», «Актуальные: проблемы современной философии».
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования: опубликованы в 3 монографиях, 7 статьях из Перечняведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны, быть представлены основные научные результаты диссертации на соискание ученойСтепени' доктора наук, и 12 статьях в: прочих изданиях. .
Основные положения диссертации обсуждались на теоретических семинарах кафедры истории философии и логики философского факультета Томского государственного университета и кафедры философии историко-философского факультета Гуманитарного института Сибирского федерального университета. .
Результаты исследования докладывались на международных и российских конференциях и семинарах: Международной научно-практической конференции (Красноярск, КГТУ, 2002), Всероссийской научно-практической конференции (Красноярск, КГТУ, 2005), Всероссийской научно-практической конференции (Красноярск, СибГТУ,.
2006), Четвертой Международной конференции «Человек в современных философских концепциях» (ВолГУ, Университет Стефана Великого (Румыния), Международное философское общество С. Франка, Российское философское общество, Волгоград, 2007), Международной научной конференции «Декаданс в Европе и России: 150 лет жизни под знаком смерти» (Волгоград, 2007), IV международной научной конференции «Философия ценностей: религия, право, мораль в современной России» (Курган, 2008).
Примечания Сёмушкин A.B. У истоков европейской рациональности. (Начало древнегреческой философии). — М.: Интерпракс, 1996. — С. 55.
2 См.: Касавин И. Т. Изобретение веры. Авраам и Иов // Вопр. фплос. — 1999. — № 2. — С. 154 — 167.
3 См.: Фуко M. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981 — 1982 гг. / Пер. с фр. А. Г. Погоняйло. — СПб.: Наука, 2007. — С. 13 — 32.
4 Адо П. Конверсия // Адо П. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с франц. При участии В. А. Воробьева. — М.- СПб.: Изд-во «Степной ветер" — ИД «Коло», 2005. — С. 197 — 213. i I i.
Заключение
.
Итак, феномен жертвенности проясняет специфику того, что мы называем «антропологической реальностью»: в некотором смысле именно через жертву человек обнаружил и обосновал собственную «человечность». По выражению Ж. Батая, в жертвоприношении он уничтожал животное, оставляя существовать только «нетелесную истину».
По-видимому, Жоржу Батаю можно отдать пальму первенства в попытке осмыслить понятие жертвы как категорию философского знания в единстве его онтологических и культурантропологических составляющихв сопоставлении с его позицией еще раз уточним и проясним основные моменты предложенного нами истолкования жертвенности. Упоминание о Батае не случайно и потому, что направление, в котором двигалось наше исследование, в конечном счете, задано той традицией современнойбольшей частью, французской, — философии, отталкивающейся от переосмысления Гегеля в версии, предложенной А. Кожевым, отвергшим традиционное его понимание как системы спекулятивного идеализма и I указавшим, что за понятием «абсолютного духа» скрывается человек и его конкретная история.
Истоки такого, антропологического, «переоткрытия» Гегеля лежат в стремлении современной мысли положить начало движению разума к тому, что ему было чуждым в рамках классического философствования — к Иному, а это значит, — к утрате своей изначальной идентичности, обнаружившей подвижный характер сознания. Дабы удержаться в поле противостояния «истории» и «экзистенции», разум вынужден был расширить свои владения, стремясь одновременно объять рациональное и иррациональное, тождественное и иное, включив в мирское существование свягценное — игру, жертвоприношение, экстаз, безумие — «тоскливейший и богатейший опыт, — настаивает Батай, — который не ограничивает себя абсолютной разорванностью, а напротив, распахивается, словно театральный занавес, открывая потустороннее этого мира, где восходящий день преобразует каждую вещь иразрушает ее ограниченный смысл"1.
Иное как угроза тождественному, придало сознанию новый статус, которому еще А. Кожев задаст образ негативности. Негативность есть сущность свободытолько через производящую силу отрицания можно отличить человека от животного и вместо «натуралистичного» описания облика «человеческого» обрести возможность выразить подлинное его содержание. В своем желании придать человеческий образ негативному Батай придерживается сформулированной Кожевым позиции, разграничивающей два основных подхода — два смысла бытия: с одной стороны — природного, в котором «быть» означает — оставаться тем же самымсохраняя свою идентичность, с другой стороны — исторического, где I быть" нужно определять через негативность, поскольку бытие действующего лица не остается тем же самым, подразумевая не просто отличие от чего бы то ни было, но — действие по изменению и отклонению. Действовать в истории, с такой позиции — значит работать над тем, чтобы не быть таким, .каков ты есть2.
Человек постигает, свою истину, лишь оказавшись в разорванности с" позитивной мощью «природного» — другими словами, обращенным к смерти. Но смерть открывает человеку только его природное, животное бытие — и даже такое открытие может состояться только в том случае, если человек прежде открыл себя самому себе, а для этого ему, считает Батай, следовало бы умереть «в жизни», созерцая собственное умирание, что как раз и происходит в жертвоприношении, в котором «жертва отождествляет себя с животным, сражаемым смертью. Таким образом, жертва умирает, видя собственное умирание, и даже некоторьш образом по своей воле, единодушно с жертвенным клинком». Не только первые изображения человека, сохранившиеся в пещерной живописи верхнего палеолита, но и неандертальские захоронения, дают четкое представление о том, что «они уже знали — чего не ведали животные — что они умрут"4.
Итак, согласно Батаю, смерть открывает человеку пространство его суверенности, через жертвоприношение совершая движение осознания смерти — движение «инициирующее и универсальное». Иначе сказать, жертвоприношение — это суверенный, автономный модус бытия — «простое обнаружение связи Человека с уничтожением, чистое открытие Человека самому себе (в тот миг, когда смерть захватывает его внимание)"5. Поскольку основание бытия — в действии, — постольку пребывание возле Негативного, открывающее человеку смерть и способность взять на себя Негативность смерти (что означает, между прочим, подчеркивает Батай, и получение удовольствия) является актом жертвоприношения — признак, при помощи которого можно указать на то, что есть Человек в качестве особой реальности, полагающей нечто новое как мир истории.
В «судьбе» как символе возвращения к своим истокам хранится «акт» пришествия в мир, «чудо» появления человека, распятого в фактичности между событием рождения и событием кончины — между смертью и эротизмом. Жертвоприношение, вскрывающее смертность человеческого бытия, открывает и истоки эротического. «Избыток восторга, сокрушающий меня» (Батай) той же природы, что и знание смерти, — они разрывают наличность человеческого существования и в тот же самый миг исчезают в этом разрыве, порождая интенсивность, экспрессию, жест — воплощение «человеческого» в пространстве и времени «мира».
В продолжение марксизма Фрейд достаточно поведал о том, что чудо человека держится не только трудом — не в меньшей степени оно хранится актуализациями смерти и эротизма. Но если труд, как основа знания и разума, «лежит на поверхности», являя многочисленные свидетельства о нашем отдаленном прошлом, как, впрочем, и настоящем, то о стихии эротизма и смерти мы можем только догадываться по той простой причине, что в своем проявлении она ускользает в тот самый момент, когда «смерть» и «эрос» разоблачают себя: человеческая природа такова, что остается в своем существе сокрытой, «принципиальное незнание» — условие движения Духа.
В ходе исследования мы стремились показать, что в основе эроса покоится ритуально-жертвенная структура, имеющая непосредственную связь с генетической проблематикой культуры, то есть со всем тем, что относится к происхождению собственно «человеческого». Это, в свою очередь, значит и то, что, в отличие от генеалогии «труда», «эротизм» и «смерть» оформляются не под властью экономики, но как раз наоборот — они существуют как способы преодоления экономики в формах праздника и траты. У Батая присутствует как раз такое понимание смерти и эроса — как принципов избыточности и антиэкономики, как метафор роскошества, расточительства накопленных богатств и ценностей, которые, если не обменивать в процессе жизни, то у последней не будет никакой альтернативы, а значит, никакого шанса превратить работу в игру, в «соблазн, удовлетворяющий свою страсть"6. И условием этого превращения является запрет — придание смысла тому, что под него попадает.
С другой стороны, жертвоприношение как способ обнаружения «человеческого» суть акт полагайия сакрального — это единое действие, имеющее различные грани. Именно запрет, по мысли Батая, преобразует эротизм, наполняя и освящая его одновременно зловещим и божественным, то есть мистериально полярным смыслом: «Само звучание этого словасвятое! — обременено смертной тоской, это тяжкое бремя, возложенное на него, есть бремя преступления в святотатстве, есть бремя смерти в жертвоприношении. Смерть освещает меня своим слабым мерцанием, она отдает меня во власть непомерно радостного смеха: смеха исчезновения!."7. Мы привыкли, — рассуждает Батай, — сочленять религию с законом и с разумомна самом деле, в своей основе религия разрушительна, поскольку требует чрезмерности, трансгрессии святого, святотатства, жертвенной траты, праздника, экстаза.
Мыслитель и сам хорошо понимает, насколько проблематичное определение дает религии, что, в свою очередь, иллюстрирует наше предпочтение понятию «религиозное» термина «сакральное». Ведь религия стремится использовать уже сублимированные — освоенные и «завершенные» культурой формы эротизма, — в результате чего динамика трансгрессии «сакрального» становится завуалированной, принципиально неполной и сокрытой, и потому относимой к области непостижимого — таинству преображения.
Вот здесь и возникает весьма не простой вопрос, поставленный, в частности, Ж. Бодрийяром и высказанный им в виде упрека Батаю. Как и Фрейд, Батай поддается соблазну натурализма и даже биологизма — жертвоприношение и жертвенная трата предстоят как принадлежащие природному порядку вещей, как функции телесного мира, естественно расточающего свои энергии. Получается, что живое существо, защищаясь табуированными формами культуры, противится природно-избыточному влечению, но, не выдерживая сопротивления, ломает законы и «экономику» запрета, вынужденно и обреченно высвобождая свою подлинную сущность. Таким образом, делает вывод Бодрийяр, «праздник» превращается в «эстетику трансгрессии», жертвоприношение как циклическая обратимость и символическая избыточность вырождается* в навязчиво невротическое повторение запрета.
Такой же упрек, только адресованный культурной антропологии, Р. Жирар сформулировал еще проще: в природе нет ничего подобного, напоминающего жертвенные акты, присущие человеку. Эротизм, как и смерть («Эрос есть прежде всего трагический бог"8) — то есть, трагический эротизм, или жертвоприношение, — бытие символическое, то> есть того порядка, когда появляются собственно человеческие отношения. «Искать секрет жертвоприношения, жертвенного разрушения, игры и траты в законе рода, — подводит черту Бодрийяр, — значит по-прежнему все это функционализировать. На самом деле одно даже близко не отстоит от другого. Нет ничего более общего между эротической избыточностью и сексуально-репродуктивной функцией, нет ничего общего между символической избыточностью смерти и биологическим распадом тел"9.
Скажем точнее: функции жертвенных актов носят социокультурный характер и проявляются в истории по мере оформления социальных связейжертвоприношение — это, прежде, всего, форма символического и коммуникативного обмена, акты установления различия в ходе социальной дифференциации. Теория Жирара заметно выделяется на фоне идей Батая и Бодрийяра, так как дает понимание того, в силу каких процессов срабатывают жертвенные акты. Рассеивая романтические представления, в плену у которых отчасти находится Бодрийяр, Жирар обнаруживает и фиксирует в феномене эротизма (по выражению Батая) присутствие нечто такого, что в силу инерции культуры мы не склонны в нем находить. Батай, в присущем ему исповедальном стиле10, также схватывает противоречивую динамику рождения сакрального как атакующую извне и изнутри человека реальность — пришествие чего-то «настоятельного и всемогущего», разбивающего человека в прах и головокружительно его возносящего: «эротизм есть реальность самая волнующая, и в то же время эротизм есть реальность самая отвратительная. она ужасна, трагична и все еще постыдна, более"того, она божественна. ."п.
Но то, о чем недоговаривает Батай, находит и объясняет Жирар: трагична и постыдна, головокружительна, потому что в основе эротизма, по Жирару, лежит феномен коллективного насилия — чередование «ролями», во взаимном обмене которых вершится стирание культурных «промежутков». Божественна и настоятельна, потому что, только через вытесняющее уклонение и «недосягаемость» можно «закрепить» различие между сходными элементами тождества. Волнующе-притягательная, потому что, восстанавливает и разрушает, отчуждает и примиряет — захватывает своей раскачивающей силой, являя в пространстве, заданном западной культурой «единственный путь обретения святого в его непосредственном содержании» (Фуко)12.
В данном случае важно понимать, что «насилие» истолковывается.
Жираром не как метафизический принцип, но генетически — как принцип происхождения сакрального. Ведь вопрос, который мог бы задать метафизическую «планку», и на который Жирар принципиально не намерен отвечать — почему человек способен воспринимать насилие как насилие, то есть, почему от насилия человек страдает? — не получает у него, как позитивно мыслящего ученого, никакого ответа. Неверифицируемость «жертвы отпущения» констатируется им как признак бессознательной структуры замещения, функционирующей в качестве условия воспроизводства социальных институтов.
То, что Бодрийяр интерпретирует как облген, противостоящий репрессивности власти и реальности, как свободное циркулирование знаков, еще не закупоренных в «сгустки» ценностей и накоплений, — то Жирар объясняет как сакральные технологии санкционирования бытия социальной инстанции, правда, допускающие ее критическое преодоление. По Бодрийяру, жертвенная трата взрывает однородный континуум профанного времени и помещает человека в катастрофическое время жертвенной смерти, высвобождая его из-под власти принципа реальности, по Жирару — «жертва» ¦ только крепче привязывает его к системе социальных взаимодействий.
Однако в любом случае — с точки зрения и Бодрийяра, и Жирара, -жертвенные акты выражают собой такой модус бытия, когда человеческие отношения еще не обрели устойчивости и находятся в конфликтном состоянии, наполненным страстями, вызовом и риском для его участников, что, в свою очередь, и вводит в социальную систему фактор неопределенности — фактор истории с его сложным, неоднозначным ритмом. Речь идет о том неравновесном состоянии «социальной материи», соответствующем понятию «конверсии», или «обращения» (в русском языке означающего одновременно и «непрерывное движение», и «возвращение вспять»), что, собственно, и является тематизацией понятия «судьбы», сочетающего в себе единовременность начального и финального — некую последовательность актов, однако имеющих смысл только в ситуации выбора: к примеру, Адам не был создан грешником, но мир устроен так, что в нем возможен грех Адамане «причинность» распоряжается поведением, но человек способен проявить себя^ в качестве некой последовательной серии актов согласно своему выбору.
На наш взгляд, указанное разночтенье в понимании функциональной значимости «жертвы», располагающейся на грани человеческой реальности и включенной в жизнь универсума, симптоматично. Оно свидетельствует о том, что жертвенные акты в истории культуры являются как фактором устойчивости господствующей социальной системы, так и способом ее субверсии. И, самое главное, оно свидетельствует о том, что жертвенный акт — это не только ритуальное уничтожение объекта, позволяющее системе обновляться, непогружаясь в неразличимую стихию «тождественного" — жертвенность подразумевает диналшку субъективности, за счет которой и осуществляется темпоральный «сдвиг» обменных процессов и которую весьма проблематично стараться мыслить в качестве аморфной, объективированной сущности коллективного субъекта.
Антропологическое «переоткрытие» Фрейда Лаканом — его идея. человека как радикально децентрированного субъекта в пространстве культуры, всвоей природе несущего отчуждение «мира», — в, нашем исследовании служит способом разрешения проблемы становления человека, находящегося в ситуации власти и подчинения определенным «структурам» (в частности, ритуалам), и эксплицирующей способность социальной системы к обороту.
Как известно, у Лакана условием формирования субъективности является структура означающего, вхождение в которую предполагает отказ от оригинального телесного опыта — неоформленного потока желаний, всегда остающегося некоординированным с воображаемым центром «эго». Субъект обретает рождение именно в тот момент, когда отчуждается от самого себя — отчуждение конституирует субъект, продолжая его в его же собственном отрицании: «неустранимая нехватка вписана в его структуру, а именно нехватка наслаждения (|ои188апсе)> которое полагается как утраченная полнота, часть нас самих, принесенная в жертву при вхождении в символическую систему языка и социальных отношений"-.
Втаком случае оправдание субъективности требует развертывания самосознания как процесса негации, вследствие которой происходит потеря: внешнего объекта и, как результат, самооборачивание сознания на себя. Другими словами, эюертвенный акт — это аннигиляция объекта и введение его в структуру познающего субъекта, что, собственно, и обозначает понятие «цезуры» как опустошения опыта «Я» за счет динамики утраты и обретения опыта «не-Я». Феномен жертвенности проистекает из утраты/запрещения наслаждения, порождающее желание бесконечного поиска утраченного/невозможного, которое в принципе не может быть завершенопоскольку полная его реализация блокирована.
Жираровская концепция, в отличие от лакановской, демонстрирует не фантазматический характер человеческой эксцентричности: «Реальное» — это позитивно существующая «данность», обладающая онтологической-устойчивостью, разрыв с которой формует социо-культурную динамику-человека. Однакобудучи реальностью взаимного насилия, «Реальное», подобно слепому пятну солнца, не поддается прямому взгляду. Получается, по Жирару, неполнота субъекта блокирована природой самого социума, удерживающего человека в тисках неустранимого «двойного зажима» коммуникативных отношений, благодаря чему получает неожиданное продолжение и классическое положение Дюркгейма об общественно коллективной, а не индивидуальной природе силы воображения («непонимания» — по Жирару), которая как раз и восполняет зазор между социально сконструированнойреальностью {"единодушием жертвы отпущения") и самим Реальным («взаимностью насилия»).
Следовательнолюбой социокультурный порядок носит неподлинный, отчужденный характерно — благодаря этому, существует и возможность «обратного движения», дающая жертве, право голоса и через сопротивление безличным социальным порядкам изменяющая мир (вариацией этого тезиса будут и вопросы: кто говорит от имени Жираракак возможна метапозщия, выскользнувшая из-под власти структуры замещенияв конце концов, может ли говорить теория об объекте, выходящим за пределы ее самой и служащим ее основанием?). Значит, правомерно допустить и то, что разлад, нестыковка безличных структур и личного существования должны быть вписаны в природу индивида: человеческая идентичность блокирована в самой себе. Ведь и Жирар говорит о том, что взаимность насилия невыносима человеку, значит, реальность, с которой человек может иметь дело — это реальность уэ/се вытесненная, так или иначе преобразованная, это реальность единодушия жертвы отпущения — возможно, не только иллюзорно искажающая подлинную действительность Реального, но, на самом деле, уберегающая субъекта от травматического столкновения/слияния с ней. Субъективность формируется в этом движении притяжения/отталкивания: субъект — это тот, кто хранит и уничтожает Реальное одновременно, никогда не сливаясь с ним и никогда не достигая с ним равновесия. В этой «петле» утраченной территории Реального и происходит «оседание» акта индивидуации, как, впрочем, и сама утрата, которая суть жест индивидуации.
Очевидно, что представления о субъекте в перспективе утраты и «возвращения вытесненного» опираются, с одной стороны, на гомогенное, синхроническое пространство культуры, внутри которого уже действуют коды-установления (например, жертвы отпущения), а с другой стороныгетерогенное, диахроническое пространство двиэюения истории, внутри которого подобные установления творятся и появляются на свет. Так, гесиодовская теогония как архаический вариант европейского сознания, воплотившего интуицию становящегося, имманентно развивающегося бытия в модусе времени, репрезентирует мистерию генезисного «созревания» мира в качестве символа Матери — автохтонного, производящего, динамично-органистического начала универсума, подавленного и вытесненного установлениями муже-отцовского принципа, зачинающего собой социокультурную родословную человека.
В то же время, Гесиод, в качестве предтечи «исторического сознания» западной культуры, инициировал в ходе нашего исследования обращение к теории Ю. Кристевой, центромкоторой являетсясемиотико-психоаналитическое исчисление фигуры субъективности как динамической структуры «говорящего субъекта», построенной на дихотомии «семиотического» и «символического», конституирующей процесс означения. Семиотическое как доэдипальная стадия — первый шаг в выделении субъекта из континуума тождественного, — рассматривается Кристевой как принципиально феминная, что означает: гетерогенная, нестабильная, в своем бесконечном пульсировании производящая значения и субъекта и завершающаяся эдипальной стадией формирования-субъективности, то есть вступлением в символическую область существования. Материнское, а значит — жертвенное, — пространство субъективности предстает в роли некоего динамического фактора, который становится прозрачным и доступным познанию в виде нарратиеа об отделении/отвращении от матери, обрекающего человеческое существо на' страдание и изгнание, в бесконечных скитаниях ищущего воссоединения;
В результате, выявленные в ходе анализа онтологические и культурантропологические основания феномена жертвенности, дали возможность обосновать, во-первых, понимание истоков опыта и образа «судьбы» как особой формы инверсии механизма жертвы отпущения и, во-вторых, экстраполировать аналитику сакрального в сферу «трагического».
В свою очередь, на примерах деконструкции мифа об Эдипе, а также интерпретации природы «трагического» в творчестве Гёльдерлина, были эксплицированы как социо-антропогенетические истоки символа судьбы в качестве циклотимично осциллирующей реальности взаимного насилия, так и онтологические основания жертвенного акта в качестве разрыва в чередовании насилия — разрыва, инсценирующего хроносмысловую динамику события «утраты», благодаря которой человек оказывается способным к самоизменению и возрастанию в культуре.
Список литературы
- Абушенко, В.Л. Философская антропология / B.JI. Абушенко // Новейший философский словарь: 2-е изд., переработ, и дополн. Мн.: Интерпрессервис- Книжный дом. 2001. — С. 1095 — 1096.
- Августин, Аврелий. Исповедь / Аврелий Августин // Лабиринты души. Аврелий Августин. Исповедь- Блез Паскаль. Письма к провинциалу. Симферополь: «Реноме», 1998.-С. 21−206.
- Аверинцев, С.С. Неоплатонизм перед лицом Платоновой критики мифопоэтического мышления / С. С. Аверинцев // Платон и его эпоха: К 2400-летию со дня рождения. М.: Наука, 1979. — С. 83 — 97.
- Адо, Пьер. Духовные упражнения и античная философия / Пьер Адо: пер. с франц. М.- СПб. Изд-во «Степной ветер», ИД «Коло», 2005.
- Адо, Пьер. Плотин, или простота взгляда / Пьер Адо: пер. с франц. Е.Штофф. М.:
- Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991.
- Античная культура и современная наука. М.: Наука, 1985.
- Аристотель. Поэтика. / Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4.
- Аристотель. Собр. соч. в 4 т. / ред. В. Ф. Асмус. М.: Мысль, 1976.
- Асмус, В.Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус: Учебн. пособ. Изд. 2-е, доп. М.:1. Высш шк., 1976.
- Ахутин, A.B. Тяжба о бытии / A.B. Ахугин. М.: Русское феноменологическое общество, 1996.
- Батай, Ж. Внутренний опыт / Ж. Батай: пер. с франц., послесловие и комментарии С. Л. Фокина. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1997.
- Батай, Ж. Гегель, смерть и жертвоприношение / Ж. Батай // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. — С. 245 — 269.
- Бергсон, А. Два источника морали и религии / А. Бергсон: пер. с франц., послесловие и примечания А. П. Гофмана. М.: «Канон», 1994.
- Бергсон, А. Собр. соч. в 4 т. Т.1 / А. Бергсон. М.: «Московский клуб», 1992.
- Бердяев, Н. А. Сочинения / H.A. Бердяев. М.: «Раритет», 1994.
- Бердяев, H.A. Философия свободного духа: Я и мир объектов. Опыт философииодиночества и общения / H.A. Бердяев. М.: Республика, 1994.
- Бердяев, H.A. Философия свободы. Смысл творчества / H.A. Бердяев. М.:
- Издательство «Правда», 1989.