Лекция 3 Проблема универсалий в средневековой онтологии
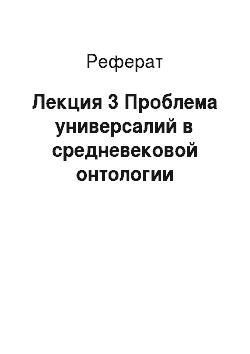
Как было показано выше, эта единичность (уникальность) вещи признается всеми тремя подходами к осмыслению проблемы универсалий. Различия начинаются там, где возникает вопрос о тех основаниях, на которых мы осуществляем действие соединения слов и вещей. Реализм, признавая божественное происхождение универсалий, тем самым вынужден связывать вещи и их смысл (выраженный в универсалиях) однозначным… Читать ещё >
Лекция 3 Проблема универсалий в средневековой онтологии (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Итак, если говорить о форме и материи применительно к трансцендентному началу всего существующего, то они непознаваемы и говорить о них можно только «по уподоблению», одновременно понимая недостаточность, ущербность того, что говорится. Именно поэтому и сотворенные вещи не могут быть исследованы нами «до конца», ведь этот «конец», совпадающий с «началом», трансцендентен миру. Поэтому познание сотворенных вещей для человека означает соединение вещей и слов, т. е., в опоре на некую вещественную данность, выявление ее смысла посредством приложения к этой данности различных понятий. Соединение здесь требуется именно потому, что и на уровне вещей, и на уровне слов мы всегда имеем дело только с продуктом божественного творчества — с чем-то вторичным, уже данным, не имея доступа к истоку. В силу этого и требуется человеческая деятельность по соединению этих «данностей», но результатом этого соединения будет не абсолютная простота божественного знания о мире (всеведение), а сложное человеческое знание, которое именно по этой причине несовершенно и может бесконечно изменяться и уточняться. Это несовершенство проявляется прежде всего в том, что человеческое знание никогда не касается непосредственно единичных вещей, т. е. самой сотворенной реальности, оно по необходимости ограничено сферой общего.
Это положение, впрочем, также восходит к Аристотелю, как и тезис о соотношении материи и формы, однако и здесь следует отметить принципиальное отличие, связанное с опорой на идею творения. В рамках онтологии Единого, исследуя единичные вещи, мы тем не менее в состоянии непосредственно мыслить то общее (форму), которая и является началом бытия, или началом определенности. Признание же сотворенности вещей в корне меняет ситуацию: между тем общим, которое является действительным началом вещи, и тем общим (формой), которую может воспринять человек, образуется пропасть, которая и преодолевается только «прыжком веры». Таким образом, то общее (форма), которая является частью человеческого знания, имеет, собственно, статус гипотезы, однако ровно постольку, поскольку она тоже дана человеку Богом (вспомним: человеческое слово восходит к божественному Слову), наша познавательная деятельность (соединение «вещей» и «слов») также осуществляется только в опоре на веру. Именно поэтому сложное человеческое знание, при всем его несовершенстве, и может выступать опорой для человека в сотворенном мире, т. е. претендовать на истинность. Сама познавательная деятельность человека выступает здесь как выражение абсолютного доверия Богу-Творцу, причем это доверие опять же проявляется двояким образом — как доверие своим ощущениям и как доверие своему интеллекту (свидетельствам своего разума).
Соединяя ощущения и понятия, человек делает это, полагая посредством веры единый трансцендентный источник того и другого. Вот как описывает эту соединяющую деятельность познания Фома Аквинский: «…Истина определяется как согласованность между интеллектом и вещью. Отсюда познать эту согласованность означает познать истину. Но последнюю чувственное восприятие не познает никоим образом. В самом деле, хотя зрение обладает подобием зримого, однако же сравнения узренной вещи и того, что оно от этой вещи восприняло, оно не познает. Интеллект же в состоянии познать свою согласованность с постигаемой вещью, однако он не воспринимает ее в том смысле, что познает некоторое неразложимое понятие, но когда он высказывает о вещи суждение, что она такова, какова воспринятая им от нее форма, лишь тогда он познает и высказывает истину. И делает он это, слагая и разделяя. Ибо во всяком суждении он либо прилагает к некоторой вещи, обозначенной через субъект, некоторую форму, обозначенную через предикат, либо же отнимает у нее эту форму»[1]. В словах Аквинского о том, что интеллект «не познает некоторое неразложимое понятие», содержится главное отличие понимания формы в онтологии Единого от смысла этой категории в рамках онтологии творения. Речь здесь идет уже не об умозрении, но о познании сотворенного мира в опоре сразу на две «точки»: непосредственный (чувственный) контакт с вещью и непосредственное обнаружение в своей душе понятия (формы).
Сложный характер познания заключается именно в том, что эти две точки необходимо сложить, в чем и заключается деятельность человеческого интеллекта. И именно в силу того, что в онтологии творения мы имеем дело уже не с единым космическим умом, но с непостижимым божественным разумом и — ограниченным человеческим, требуется действие «сложения и разделения», которое осуществляется в опоре на веру. Этим действием преодолевается тот разрыв, который существует здесь между формой и материей, непостижимо «принадлежащими» Богу, и формой и материей, с которыми встречается человек в процессе познания мира. Нетрудно заметить, что две вышеназванные «точки» совпадают с «полюсами» материи и идеи, между которыми движется мысль в рамках онтологии Единого. Это движение, однако, уже не может быть непрерывным: оно требует «прыжка веры». При этом вера требуется здесь не только для того, чтобы соединить чувственно воспринимаемую вещь и форму (понятие), но и для того, чтобы принять (утвердить) и чувственный образ, и понятие в качестве существующих (того, что есть). Точнее говоря, мы не можем четко разделить три этих момента в нашей познавательной деятельности: все эти моменты «обеспечиваются» верой или доверием собственному разуму, несмотря на его неполноту, ущербность, ограниченность. В конечном счете это доверие Творцу, который позволяет человеку исследовать мир в меру человеческих (ограниченных) возможностей.
Парадокс, однако, заключается в том, что это доверие тоже «раздваивается», коль скоро познающий должен доверять одновременно и опыту встречи с конкретной единичной вещью, и той форме (понятию), которая выделяет общее в вещах. Именно в этой двойственности и кроются истоки пресловутой «проблемы универсалий», разделившей мыслителей европейского Средневековья на несколько противоборствующих лагерей. Универсалия в контексте средневековой схоластики — это не просто форма (формой обладает и единичная вещь), но та форма, которая, как выражались средневековые мыслители, «сказывается о многих вещах», т. е. выступает в качестве общего понятия.
Принято считать, что первая отчетливая формулировка проблемы универсалий принадлежит Боэцию, который в своем трактате «Комментарий к Порфирию» задается следующим вопросом: «…Все, что дух мыслит [бывает двух родов] — либо он постигает мышление (intellectus) и сам себе описывает рассудком (ratio) то, что установлено в природе вещей, либо рисует себе праздным воображением то, чего нет. Так вот, спрашивается, к какому из двух родов относится мышление о роде и прочих [категориях]: так ли мы мыслим виды и роды, как-то, что существует и относительно чего мы можем достичь подлинного понимания, или же мы разыгрываем самих себя, создавая с помощью бесплодного воображения формы того, чего нет»[2].
Учитывая сказанное выше о двух «полюсах» познания и мышления, в равной степени утверждаемых актом веры, естественно было бы спросить: почему Боэций высказывает сомнение именно в отношении «мышления о роде и прочих категориях», т. е. только одного из вышеупомянутых «полюсов»? Ответ на этот вопрос, как представляется, следует искать опять же в идее сотворенности, т. е. данности мира. Эта данность в рамках онтологии творения впервые открывается человеку в виде данности себя самого — как единичного, неповторимого, существующего до всякого содержательного мышления, и, собственно, именно в опоре на эту данность человек и отваживается на «прыжок веры», на выход за (на) пределы мира. Именно переживание себя как индивидуальной вещи позволяет человеку признавать несомненность существования тех вещей, которые он воспринимает в чувственном опыте.
Речь идет именно о признании, а не о познании, о том, что нечто есть, и это не подлежит никакому сомнению. Это установка, непосредственно опирающаяся на веру и не требующая удостоверения разумом, «точка отсчета» движения мысли в рамках онтологии творения. Иначе обстоит дело с оперированием общими понятиями. С одной стороны, последние — как значения слов — тоже, как уже отмечалось выше, должны иметь статус вещей, т. е. того, что сотворено, дано. С другой же — разрыв между божественным и человеческим интеллектом и делает последний способным к порождению химер, к тому, чтобы «рисовать праздным воображением то, чего нет».
Поэтому, в отличие от полагания вещей как сотворенных, когда актом веры устанавливается связь между «самой вещью» и ее восприятием, полагание универсалий (общих форм) в качестве существующих требует установления связи… внутри самого разума: найденное в разуме понятие должно быть удостоверено. Впрочем, здесь необходимо уточнить, что проблема универсалий не является проблемой различения «истинных» понятий, имеющих отношение к тому, что есть, и «химер воображения». Речь идет скорее о том, чтобы найти ответ на следующий вопрос: что должно приниматься на веру в том случае, когда мы имеем дело с универсалией: ее содержание или действие нашего разума, соединяющего понятие (универсалию) и единичную вещь в процессе познания? В первом случае мы оказываемся на позиции реализма, утверждающего универсалии как-то, что существует, — прежде всего в божественном разуме и, в силу этого, в человеческом. Во втором случае речь идет о позиции номинализма (от лат. nomina — имя), утверждающего реальность только единичных вещей, универсалии же рассматривающего как нечто условное, как те имена, которыми человек наделяет вещи в процессе познания. В рамках номинализма, таким образом, речь идет не об отказе от универсалий (что невозможно), но именно о переносе акцента с содержания понятия на действие соединения понятия и вещи. Условный, «нереальный» характер универсалии отнюдь не означает невозможности истинного познания общего: наделяя вещи именами, человеческий разум действует с божественного соизволения. Этот упор на действие разума, как нетрудно заметить, открывает путь к множественности знания, его вариативности, порождая, однако, опасность исчезновения критерия, в соответствии с которым можно отличить истинное знание от ложного.
Своего рода промежуточный вариант решения проблемы универсалий предлагает так называемый концептуализм — подход, связываемый прежде всего с именем Пьера Абеляра, французского мыслителя XII в. Согласно Абеляру универсалии не восходят непосредственно к Богу, но и не являются чистой условностью: наделяя вещь универсальными характеристиками, познающий опирается при этом на нечто реальное (интуицию некоей реальности), которую Абеляр называет «статусом». Так, говоря о понятии «человек», Абеляр поясняет: «Мы называем статусом человека само бытие — человеком, что не есть вещь, но то, что мы называем общим основанием приложения имени к каждому человеку, благодаря чему они между собой схожи. Статусом человека мы можем называть и вещи, сами по себе составляющие природу человека, общее сходство между которыми постигает (concipere) тот, кто налагает имя»[3]. В понятии статуса, таким образом, действительно довольно точно схватывается та двойственность мышления, о которой все время идет речь применительно к онтологии творения: в процессе познания я «постигаю сходство» между сотворенными вещами и «налагаю имя», имея в виду и непостижимость вещей — в их истоке, и их разумный характер, что позволяет мне считать статус вещи чем-то обоснованным, имеющим отношение к реальности: «…зависит ли общность универсальных имен от общего основания, [определяющего] их приложение, или от общего концепта, или от обоих сразу? Ничто не препятствует [утверждению], что [общность] универсальных имен зависела бы от обеих, но, кажется, большим весом обладает общее основание, по которому постигается природа вещей»[4].
Собственно, «общее основание» здесь и есть то, что утверждается актом веры наряду с самими единичными вещами: и в восприятии этих вещей, и в деятельности по объединению этих вещей в те или иные категории, классы, я опираюсь на то, что принимаю просто как данность, как нечто неслучайное, неотменимое, т. е. имеющее божественное происхождение. Именно эта «схваченная» концептуализмом парадоксальность отношения познающего человека к сотворенному миру и позволяет признать данный подход не просто «средним арифметическим» по отношению к реализму и номинализму, но той позицией, которая обнаруживает истину этих двух полярно противоположных подходов. Истиной реализма выступает как раз необходимость утверждать содержание знания, которое в конечном счете, как утверждает значительная часть средневековых мыслителей, следующих в этом вопросе античной традиции, может быть только знанием общего, универсального в вещах. Так, мыслитель XIII в., учитель Фомы Аквинского Альберт Великий, поясняет тезис об универсальном характере знания следующим образом: «…ничто не познается чистым интеллектом, помимо универсального, и, как учат [перипатетики], причина этого в том, что интеллект, будучи простым и чистым, ничего не имеет общего с частным и отделен от него»[5].
Однако именно эта отделенность интеллекта (в данном случае — человеческого ума) от «частного» (единичных сотворенных вещей) и не позволяет осуществить установку реализма во всей полноте (в силу чего и принято говорить о так называемом «умеренном реализме» Альберта Великого, Фомы Аквинского и ряда других средневековых мыслителей). Признавая реальность (т. е. возводя их к Богу) общих понятий, а соответственно и человеческого знания о сотворенном мире, христианские мыслители Средневековья одновременно признают и ту пропасть, которая отделяет это знание и сами вещи, также восходящие непосредственно к Богу, т. е. остающиеся в конечном счете тайной для человека. Именно поэтому реалисты вынуждены говорить о различных, несводимых друг к другу способах существования универсалий: «Итак, универсальное существует, соответственно способности, в вещах, внешних [душе], но соответственно акту существования — только в интеллекте, и поэтому перипатетики сказали, что универсальное существует только в интеллекте, относя это к универсальному, которое есть во многом и относительно многого согласно акту существования, а не согласно только способности»[6].
«Акт существования», о котором идет речь в данном положении Альберта Великого, — это, собственно, акт человеческого познания, выявляющий общее в вещах, но одновременно и акт веры, утверждающий как правомерность самого действия интеллекта, так и истинность содержания знания, восходящего к Богу. Тогда способность вещей воспринимать универсалии (формы) и существовать согласно этим формам также неявно утверждается тем же самым актом веры. Таким образом, реализм, основанный на идее творения мира, так или иначе вынужден признавать некоторую условность универсалий — постольку, поскольку они «работают» в человеческом познании. Последнее всегда вынуждено останавливаться перед границей, «за» которой — тайна божественного действия. Именно поэтому категории формы и материи — в той мере, в какой они осмысляются человеком, — оказываются недостаточными для того, чтобы «ухватить» сотворенную вещь во всей полноте, для этого требуются иные понятия, имеющие опять же в какой-то степени апофатический смысл.
Так, обращаясь к аристотелевскому понятию сущности, Фома Аквинский указывает именно на отмеченную выше его недостаточность применительно к осмыслению сотворенных вещей: «Сущность есть в собственном смысле слова то, что выражается в дефиниции. Дефиниция же объемлет родовые, но не индивидуальные основания. Отсюда явствует, что в вещах, составленных из материи и формы, сущность означает не одну форму и не одну материю, но то, что составлено из общей формы и материи в соответствии с родовыми основаниями. Однако то, что составлено из «этой материи «и «этой формы», определяется через ипостась и лицо. Ибо душа, плоть, кости определяются как «человек», но «эта душа», «эта плоть», «эти кости» определяются как «этот человек». Таким образом, ипостась и лицо прибавляют сверх определения сущности индивидуальные основания и потому с сущностью не совпадают, насколько это относится к вещам, составленным из материи и формы»[7]. Греческое слово «ипостась», собственно, и переводится на латинский язык как «субстанция»; таким образом, субстанция — как непознаваемое божественное основание любой вещи — наряду с «лицом» (неповторимой индивидуальностью) оказывается в концепции Фомы Аквинского тем «остатком» вещи, который всегда недоступен для человеческого познания. Последнее может дать «дефиницию» вещи, но в тайну божественного творящего акта проникнуть не в состоянии. Таким образом, то, что выходит за рамки возможностей человеческого интеллекта — это, собственно, сам акт творения, или акт бытия.
Человеческий разум не в состоянии охватить собой этот акт в том числе и потому, что сам является его продуктом, точнее говоря, сам реализуется посредством этого акта, — он так же несамодостаточен, как и любая сотворенная вещь. Действие соединения знания о сущности вещи с самой вещью, осуществляемое человеческим интеллектом в опоре на веру, также восходит к Богу и поэтому никогда не может быть предметом знания. Именно в момент этого действия человек приобщается к божественному разуму, для которого быть, мыслить и творить — одно и то же. Божественный разум, таким образом, всецело действителен, актуален, в то время как человеческий — потенциален, иными словами, он нуждается в чем-то внешнем себе для того, чтобы познавать, на что указывает Фома Аквинский: «Умопостигаемое в действительности есть ум в действительности; точно так же как ощущаемое в действительности есть чувство в действительности. Умопостигаемое отличается от ума постольку, поскольку оба находятся в потенции; то же самое и с чувством: так, зрение — это не то, что видит в действительности, [а то, что может видеть], а видимое — не то, что мы видим в действительности, [а то, что в принципе можно увидеть]; [оба реализуются] только тогда, когда зрение оформляется видом видимого — тогда из зрения и видимого получается одно»[8].
Иными словами, переходя из потенциального в актуальное состояние, человеческий ум становится причастным Богу. Парадокс же заключается в том, что именно необходимость такого перехода и делает человеческое знание принципиально неполным; полнота знания недостижима именно потому, что знание дополняется действием веры, которое одновременно выступает действием разума, «слагающего и разделяющего» единичные вещи, воспринимаемые в опыте, и общие понятия. Эта неустранимая неполнота — момент, объединяющий позиции реализма и номинализма. Признавая божественное происхождение универсалий, реализм, как было показано выше, вынужден признавать и наличие непреодолимого барьера между божественными и человеческими понятиями; последние требуют дополнения непознаваемыми, данными в опыте, единичными вещами. Номинализм же «высвечивает» именно этот «полюс» вещи, непрозрачной для рассудочного (понятийного) познания, будучи вынужденным, однако, признавать и неустранимое™ универсалий из познавательного процесса.
Один из виднейших представителей средневекового номинализма, мыслитель XIV в. Уильям Оккам, определяя природу знания, утверждает, подобно Аквинскому, его «составный» характер, предполагающий обязательное обращение к универсалиям. Все отличие от позиции так называемого «умеренного реализма» заключается здесь в трактовке самих универсалий как «интенций души», т. е. своего рода «направленных действий» души, осуществляемых в процессе познания: «…любое научное знание — знание составного [высказывания] или составных [высказываний]. Те составные [высказывания], которые познаются научным знанием, составляются не из чувственно воспринимаемых вещей или субстанций, но из интенций, или понятий души, общих для таковых вещей… И это то, о чем говорит Философ: наука трактует не о единичных [вещах], но об универсалиях, подразумевающих эти единичные [вещи]»[9]. Отсюда понятно, что универсалия у Оккама не просто условность; «подразумевая» единичную вещь, универсалия как раз и оказывается действием души (человеческого интеллекта), стремящейся соединиться с вещью в акте познания.
Этот акт, таким образом, выступает как первичный, как «пусковой механизм» познавательного процесса, не основанный, в свою очередь, ни на каком знании. Еще до того как я получу в свое распоряжение то или иное содержание знания, я уже действую, уже познаю. Это первичное «бессодержательное» знание Оккам называет знанием как «качеством, существующим в душе»[10]. Это «субъектное существование» есть не что иное, как акт воли: «…душа может познавать то, что не знала прежде, благодаря тому, что желает знать то, что прежде не знала; следовательно, она обладает тем, чем не обладала ранее. Но это не может быть дано иначе, как в виде познавательного акта или акта воли. Следовательно, акт воли или познавательный акт есть некое такое качество»[11].
Итак, акт воли или познавательный акт — это одно и то же, просто потому, что здесь еще нет никакого содержания. Поэтому мы можем добавить сюда и третье «определение» того же самого акта, назвав его актом веры. Здесь-то как раз и становится очевидным тот «полюс» единичной вещи, о котором говорилось выше. Вещь оказывается тем «объектом», который утверждается в познавательном акте, предпринимаемом свободно (акт воли), но в контексте принятия данного, сотворенного Богом мира (акт веры). Непосредственным проявлением такого принятия выступает в концепции У. Оккама так называемое интуитивное знание, определяемое следующим образом: «…интуитивное знание вещи есть такое знание, в силу которого можно знать, есть вещь или нет, так что, если вещь есть, разум тотчас же выносит суждение о том, что она есть, если не встретит случайно препятствий из-за несовершенства этого знания. И тем же самым образом, если бы было совершенное интуитивное знание о несуществующей вещи, сохраненное божественным могуществом, то в силу этого несоставного знания разум с очевидностью познавал бы, что эта вещь не существует»[12].
Последнее положение здесь имеет особое значение, проливая свет на подлинное основание интуитивного знания: и в случае существования вещи, и в случае ее несуществования этим основанием выступает «божественное всемогущество», а не какиелибо «доказательства», которые можно признавать или отвергать. Интуитивное знание — это то, что я обретаю в момент встречи с сотворенным миром, который является для меня тайной, — как в отношении своего «устройства», так и в отношении конкретных, происходящих здесь и сейчас событий. Именно поэтому обретение интуитивного знания — это, по сути дела, принятие на веру того, что случается в мире, т. е. не является заранее предположенным, или, по выражению Оккама, является «не-необходимым»: «…всякое несоставное знание термина либо терминов или вещи либо вещей, в силу которого может быть с очевидностью познана какая-либо не-необходимая истина, особенно о присутствующем, есть знание интуитивное. Знание же абстрагированное есть то, в силу которого относительно не-необходимой вещи не может быть с очевидностью познано, есть она или нет. И таким образом абстрагированное знание абстрагируется от существования и несуществования, ибо посредством него, в противоположность интуитивному знанию, не может быть с очевидностью познано относительно существующей вещи, что она существует, и относительно несуществующей, что она не существует»[13]. Заметим, что, говоря об интуитивном знании, Оккам упоминает о знании «терминов» и «вещей». Здесь следует указать на то, что, определяя термин как «непосредственную часть высказывания»[14], Оккам понимает его как слово, обозначающее вещь в акте познания, что с особой очевидностью обнаруживается в оккамовском определении «ментального термина», или «умственного слова»: «Ментальный термин есть интенция, или претерпевание, души, обозначающее или соозначающее нечто, по природе и предназначенное для того, чтобы быть частью высказывания, производимого в уме, и подразумевать то, [что оно обозначает]»170.
Таким образом, вырисовывается следующая схема познания: интуитивное знание первично и возникает в акте, полагающем и вещь, и слово (термин), прилагаемое к этой вещи, — даже если это термин «нечто» или соответственно «вещь». Здесь мы обнаруживаем ту же двойственность или «двунаправленность» акта мышления, которая характеризует онтологию творения как таковую. Началом познавательного процесса выступает акт веры, на противоположных «полюсах» которого оказываются слово и вещь, которые познающий соединяет. Отличие от позиции реализма заключается здесь в том, что центральным моментом познавательного процесса становится само действие соединения «слов» и «вещей», ведь, будучи «сами по себе» единичностями (слово — как-то, что я нахожу в душе, — тоже есть нечто единичное), они не содержат своего смысла (того, что позволяет перейти от единичного к общему, т. е. к знанию) в «готовом виде». Соединяя «слова» и «вещи», познающий, собственно, наделяет смыслом и то и другое. Этот «произведенный» смысл и становится содержанием абстрагированного знания, или знания «о необходимом». Неудивительно, что «случайное» здесь оказывается предшествующим необходимому, ведь действие, в котором рождается знание, выступает актом воли, иными словами — не задано никакой необходимостью.
Именно поэтому универсалии не существуют «сами по себе», т. е. в качестве субстанций: общие понятия являются таковыми потому, что подразумевают многие вещи, а не одну, но делается это каждый раз заново, отдельными познавательными актами, а следовательно, вне этих актов универсалий нет. Говоря об универсалиях как об «актах мышления», Оккам заключает: «…Эти акты мышления, [осуществляемые] душой, называются претерпеваниями души и по своей природе подразумевают вещи вне [души], и иные вещи в душе так же, как слова, подразумевают вещи по [произвольному] установлению… И посредством такого смутного акта мыслятся единичные вещи вне [души]. …Итак, следовательно, можно сказать, что одно и то же познание может быть познанием бесконечного числа [объектов], но при этом оно не будет собственным познанием для одного из них и посредством этого познания один объект не может быть отличен от другого»171.
В конечном счете последовательное осуществление установки номинализма предполагает следующую альтернативу: всегда в той или иной степени «смутное» интуитивное знание первично, оно непосредственно соприкасается с сотворенной реальностью, по мере же прояснения, т. е. перехода в статус абстрагированного (опирающегося на все более уточняющиеся «термины»), знание все более и более удаляется от реальности, соединяясь с ней опять же только верой. Однако, как было показано выше, признание существования этого «зазора» между сотворенным миром и человеческим знанием о нем — момент, объединяющий позиции номинализма и реализма (за исключением, может быть, самых крайних вариантов последнего). Реализм, утверждая некое содержание знания о мире (некое «что») в качестве реального, т. е. восходящего к Богу-Творцу, в то же время явно или неявно «имеет в виду» условность этого содержания: пропасть между формой (идеей) в божественном уме и формой (идеей) в человеческом интеллекте не исчезает. Номинализм же, осмысляя ту же самую ситуацию — необходимости для человека познать (осмыслить) сотворенный мир, переводя взгляд на саму пропасть между Богом и человеком как тварным существом, утверждает тем не менее правомерность прыжка через нее. Этот прыжок осуществляется именно тогда, когда человек соединяет в своем знании слова (термины) и вещи, «подразумевая» одни под другими. Таким образом, номинализм также — косвенным, опосредованным образом — утверждает содержание человеческого знания о мире.
Это парадоксальное отношение между условностью (неполнотой, ущербностью) любого человеческого знания о мире и необходимостью опираться на него в осуществлении своего бытия как осмысленного порождает вполне определенные «способы жизни», которые характеризуют человеческое существование в средневековой европейской культуре. Основной из этих способов можно было бы назвать «следованием слову». Речь при этом идет не только о том, что нормы человеческой жизни — во всех ее аспектах — опираются на текст Священного Писания, но о том, что в рамках данного способа мышления-бытия жизнь вообще выстраивается в опоре на текст. Слово, «за» которым стоит понятие, выступает здесь своего рода «вместилищем» готовых смыслов вещей и соответственно тех функций, которые они выполняют в общей иерархии сотворенного мира.
Применительно к человеку это означает жесткую заданность тех форм существования, которые он должен реализовывать в зависимости от того, к какой категории отнесен. Культуролог Й. Хейзинга следующим образом характеризует эту особенность мышления, свойственную европейскому Средневековью: «Для любого жизненного уклада, сословия, профессии был очерчен религиознонравственный идеал, с которым нужно было сообразовывать свои устремления соответственно своему роду занятий, дабы затем достойно послужить Господу. …Именно в этом строгом обособлении положения человека как чего-то совершенно самостоятельного как раз и выражается истинный дух Средневековья, и такая разработка учения о следовании своему долгу заключает в себе то абстрактное и всеобщее, что никогда не открывает пути в действительную сферу того или иного занятия»[15]. Автор называет подобное «обособление» реализмом, что, разумеется, не лишено оснований. Действительно, подробная «проработка» содержания понятия, имеющая своим результатом четко сформулированную «программу действий», очерченных рамками данного понятия, может быть оправдана на первый взгляд только реалистским тезисом о божественном происхождении универсалий.
На примере этой установки — «следования слову» — становится очевидным то отличие, которое характеризует понятие универсалии в рамках онтологии творения в противоположность категории идеи в онтологии Единого. «Жизнь в свете идеи», которую практикует человек в античной культуре, осуществляется в опоре на живую, существующую здесь и сейчас мысль, которая сама направляет человека. Эта мысль никому не принадлежит, точнее принадлежит самому бытию, о-формляя его в тот или иной «вид» («эйдос»). Именно поэтому ответить на вопрос «что есть (нечто)?», по сути дела, невозможно, если под ответом разуметь некую формулу или дефиницию какой-либо вещи. Пытаясь выяснить, что есть «красота», «справедливость», «знание» — «само по себе», собеседники в платоновских диалогах не столько разрабатывают понятие, сколько в самом разговоре о-существляют, рождают заново красоту, справедливость, знание и т. д. В рамках онтологии Единого знание (как оформленная мысль, как текст) не довлеет над человеком — просто в силу того, что в любой момент живая мысль может «расплавить» это знание и принять какую-то иную форму. Именно с этим и связано, как говорилось выше, многообразие жизненных укладов, способов осуществления той или иной деятельности, верований, свойственное античной (прежде всего древнегреческой) культуре.
В сравнении с этой вариативностью существование человека в средневековой европейской культуре действительно кажется скованным жесткими рамками универсалий, которые выступают не живыми, изменчивыми, но уже ставшими, застывшими формами. Вещь как сотворенная «единица существования», включая сюда и человека, предстает как набор готовых качеств и функций, которые уже известны и, следовательно, предполагают вполне определенное отношение к этой вещи и соответствующие действия с ней. Наиболее ярким примером здесь может служить именно категоризация людей в соответствии с их местом в структуре общества. Согласно свидетельству французского исследователя Ж. Ле Гоффа, представители разных сословий заранее, по самому факту своей социальной принадлежности, наделялись в средневековом обществе не только определенными душевными, но и вполне определенными физическими качествами: «Показательно, что в течение долгого времени за индивидом вообще не признавалось право на существование в его единичной неповторимости. Ни в литературе, ни в искусстве не изображался человек в его частных свойствах. Каждый сводился к определенному физическому типу в соответствии со своей социальной категорией и своим рангом. Благородные имели белые или рыжие волосы, а также золотые волосы, цвета льна, часто — вьющиеся; голубые „правдивые“ глаза — трудно не усмотреть в этом вторжения северных воинов в каноны средневековой красоты. И если великий деятель случайно не укладывался в общепринятые условности физической характеристики (что, например, произошло с Карлом Великим, действительно имевшим, как это выяснилось после вскрытия его могилы в 1861 г., семь футов роста — 192 см, приписываемых ему биографом Эйнхардом), то его личность все равно полностью оставалась погребенной под грудой общих мест. Биограф наделил императора полным набором аристотелевских и стоических качеств, необходимых особе его ранга»[16].
«Особа» определенного ранга здесь как раз то самое слово, которое определяет собой все свойства и характеристики конкретного человека. Последний как бы целиком «поглощается» данным словом, «вписывается» в него, и даже если реальные его действия расходятся с этими, заранее заданными характеристиками, истину слова это никак не задевает. Отступление от такой «заданное™» тоже уже заранее «вписано» в представление о любом творении, коль скоро, по выражению Фомы Аквинского, определенные категории творений «могут отступать от своего совершенства». Отсюда понятно отсутствие интереса к конкретным явлениям, частным случаям, свойственное средневековой науке. Как пишет Ж. Ле Гофф, «…физики экспериментам предпочитали Аристотеля, медики и хирурги вместо вскрытий предпочитали опираться на Галена. Именно предрассудки докторов в гораздо большей степени, чем нерешительность и уклончивость церкви, задержали развитие практики вскрытий и прогресс анатомии»[17]. Осуждающий тон историка можно понять: он обусловлен представлением о превосходстве современной научной картины мира и связанных с ней способов мышления и деятельности. Здесь, однако, необходимо помнить о том, что такое упрямое нежелание обращаться к эксперименту и подчинение авторитетному знанию и есть непосредственное осуществление той жизненной и мыслительной стратегии, которая выше была определена как следование за словом.
Более пристальное «всматривание» в этот способ рассуждения и действия обнаруживает за догматизмом и косностью последовательность, строгость и непреклонную волю, основанную на вере. Ярким примером подобного образа действий может служить жизнь святой Моники, матери Августина, о которой он пишет в своей «Исповеди»: «Воспитанная в целомудрии и воздержании, подчиняясь родителям скорее из послушания Тебе, чем Тебе из послушания родителям, она, войдя в брачный возраст, вручена была мужу, служила ему, как господину, и старалась приобрести его для Тебя. О Тебе говорила ему вся стать ее, делавшая ее прекрасной для мужа: он ее уважал, любил и удивлялся ей. Она спокойно переносила его измены; никогда по этому поводу не было у нее с мужем ссор. Она ожидала, что Ты умилосердишься над ним и, поверив в Тебя, он станет целомудрен. А кроме того, был он человеком чрезвычайной доброты и неистовой гневливости. И она знала, что не надо противоречить разгневанному мужу не только делом, но даже словом. Когда же она видела, что он отбушевал и успокоился, она объясняла ему свой поступок; бывало ведь, что он кипятился без толку. У многих женщин, мужья которых были гораздо обходительнее, лица бывали обезображены синяками от пощечин; в дружеской беседе обвиняли они своих мужей, а она их язык; будто в шутку давала она им серьезный совет: с той минуты, как они услышали чтение брачного контракта, должны они считать его документом, превратившим их в служанок; памятуя о своем положении, не должны они заноситься над своими господами»175.
Это потрясающее свидетельство демонстрирует нам отнюдь не тупую покорность женщины, занимающей подчиненное положение в патриархальном обществе, но осмысленное принятие своего определенного статуса в сотворенном мире — статуса, закрепленного словом. Именно универсалия («дочь», «жена») определяет тог или иной образ действий конкретного человека в жесткой иерархии сотворенного общества. Однако это происходит не автоматически, но предполагает всякий раз осуществление акта свободной воли. Именно этот момент полностью уравнивает людей вне зависимости от того, к какой социальной категории они принадлежат: следуя слову, (т. е. принимая тот или иной статус в качестве данного Богом), человек, вне зависимости от того, каков этот статус (от содержания универсалии), совершает одно и то же действие. Отличия между людьми обусловлены здесь прежде всего тем, с какой последовательностью и полнотой это действие совершается, а не тем, каково это действие в содержательном плане. Реализуя ту или иную функцию в общественном (и мировом) устройстве, человек устанавливает непосредственную связь с Творцом, — и это как раз тот момент, который делается явным в рамках позиции номинализма. Утверждая условность общих понятий, номинализм как раз и указывает на главное условие бытия в контексте онтологии творения: быть — значит оказаться причастным творящему действию, т. е. совершить акт веры, или акт свободного принятия на себя того или иного статуса.
Важно понять, что принимает на себя этот статус тот, кто еще не связан никаким статусом, — та самая уникальная сотворенная вещь, которая прежде всего соединена со своим Творцом и лишь затем — с другими вещами сотворенного мира. Именно поэтому и выстраивается та последовательность в образе действий, о которой пишет Августин: человек решает, например, подчиняться родителям из послушания Богу, а не наоборот. Эта непосредственная связь с Творцом (ее можно назвать «вертикальной») в противовес «горизонтальным» связям с другими сотворенными вещами порождает еще одну особенность мышления и деятельности человека средневековой культуры, которая выступает оборотной стороной стратегии «следования за словом». Речь идет об утверждении неприкосновенности, «отдельности», существования до всяких связей и отношений («горизонтальных») той «единицы бытия», которая противостоит слову и обозначается им — сотворенной вещи.
Как было показано выше, эта единичность (уникальность) вещи признается всеми тремя подходами к осмыслению проблемы универсалий. Различия начинаются там, где возникает вопрос о тех основаниях, на которых мы осуществляем действие соединения слов и вещей. Реализм, признавая божественное происхождение универсалий, тем самым вынужден связывать вещи и их смысл (выраженный в универсалиях) однозначным образом. Именно поэтому признание уникальности каждого сотворенного сущего сопровождается тем не менее жесткой закрепленностью за любым из этих сущих той или иной универсалии («субстанциальной формы»), определяющей, что есть эта вещь, иными словами — какое место она занимает в сотворенном мире. Номинализм же, утверждая условный характер универсалий, должен допустить возможность различного «именования» одной и той же вещи. И все же вновь следует отметить, что этот момент, связанный с выделением каждой сотворенной вещи в ее абсолютной независимости от других вещей, наиболее внятно выражен в концептуализме П. Абеляра. В трактате «Логика для начинающих» Абеляр присоединяется к мнению тех, кто считает, «что единичные вещи различаются между собой не только формами, но и личностно, по своим сущностям, и никоим образом то, что есть в одной, будь то материя или форма, не находится в другой; даже при упразднении форм [вещи] остались бы существовать как дискретные в своих сущностях, ибо их персональная различенность, на основании которой это не есть то, основывается не на различении форм, но на самом сущностном различении, подобно тому как попеременно различаются по формам»[18].
Это «личностное», персональное различие вещей друг от друга восходит к их божественному источнику: в основе существования каждой вещи «находится» отдельный акт творения, что и делает каждую вещь, если можно так выразиться, «непроницаемой» для другой. Божественное непознаваемое начало, образующее каждую вещь, является препятствием для того, чтобы эту вещь — пусть это будет даже неживое тело, камень например, — полностью разложить на элементы, сделать предметом анализа и манипулирования. Сотворенную вещь можно использовать ровно таким образом и в такой степени, как и насколько она это позволяет, иными словами — в соответствии с божественным замыслом относительно этой вещи. Именно такое отношение к вещам лежит, как представляется, в основе «антитехнической» направленности образа мыслей средневекового человека, о которой пишет, например, Ж. Ле Гофф. Как отмечает исследователь, «…механизация практически не сделала никакого качественного прогресса в Средние века. Почти все употреблявшиеся тогда механизмы были описаны учеными эллинистической эпохи, главным образом александрийскими, которые нередко намечали и их научную теорию»[19].
Это отсутствие какого-либо движения в заметном совершенствовании технических устройств Ле Гофф связывает с консерватизмом человека средневековой культуры: «Не существует, вне всяких сомнений, иной сферы средневековой жизни, нежели техническая, в которой с такой антипрогрессивной силой действовала бы другая черта ментальности: отвращение к „новшествам“. Здесь еще в большей мере, чем в прочих сферах, нововведение представлялось чудовищным грехом. В течение долгого времени на средневековом Западе не было написано ни одного трактата, но технике; эти вещи казались недостойны пера, или же они раскрывали бы некий секрет, который не следовало передавать. Когда в начале XII в. немецкий монах Теофил писал трактат „О различных ремеслах“, то он стремился не столько обучить ремесленников и художников, сколько показать, что техническое умение есть божий дар»[20]. Последнее выражение отнюдь не является риторической фигурой: тайна творения, присутствующая в каждой вещи, доступна только самому Творцу и соответственно только Бог может наделить человека искусством обращения с вещами.
По отношению к человеку эта же присутствующая в сотворенном сущем тайна требует прежде всего признания неприкосновенного ядра личности в каждом из людей. Это ядро отрицательным образом «высвечивается» в том числе и в той «реалистской» стратегии мышления, которую описывает Й. Хейзинга: «Действительным достижением средневекового сознания было разложение всего мира и всей жизни в целом на самостоятельные идеи и упорядочение и объединение этих идей в обширные, разнообразные множества на основе зависимостей ленного типа, т. е. в иерархии понятий. Отсюда способность средневекового сознания из комплекса качеств, соотносимых с отдельным явлением, выделить одно-единственнос в его сущностной самодостаточности. Когда епископа Фулькона Тулузского упрекнули в том, что он подал милостыню альбигойке, он ответил: „бедной я подал, а не еретичке“»[21]. Сама эта способность «выделить одно-единственное качество» и определить посредством этого качества человека в той или иной ситуации свидетельствует о том, что за каждым из этих отдельных качеств скрывается то, что никак не может быть охарактеризовано, — сотворенная вещь свободна.
С особой отчетливостью эта «неуловимость» человека как сотворенной вещи выступает на границе между жизнью и смертью, например в случае казни преступника. Обычай, связанный с исповедью и отпущением грехов перед казнью, свидетельствует о признании этого «свободного ядра личности», к которому и обращается священник перед казнью осужденного. Кроме того, общественное положение приговоренного к казни также предполагает определенный «антураж», сопутствующий свершению правосудия, как об этом пишет И. Хейзинга: «Даже при совершении казни строго принимается во внимание честь, которую следует воздавать рангу и званию: эшафот, воздвигнутый для коннетабля Сен-Поля, украшен богатым ковром, на котором вытканы лилии; подушечка, которую ему подкладывают под колени, и повязка, которой ему завязывают глаза, из алого бархата, а палач еще ни разу не казнил ни одного осужденного — для знатной жертвы весьма сомнительная привилегия»[22].
Таким образом, в некоем исходном непознаваемом единстве здесь скрываются как минимум три статуса, в которых выступает человек: свободное существо, способное раскаяться в своих прегрешениях, преступник, заслуживающий смерти, и знатное лицо, которому полагаются определенные почести даже в случае его казни. Именно это таинственное «ядро» человека как сотворенного существа делает его ареной непрекращающейся борьбы, которая в конечном счете всегда оказывается противостоянием «посюстороннего» — земного, несамодостаточного, ущербного начала и «потустороннего», т. е. начала самого бытия: «В средневековом сознании формируются как бы два жизненных воззрения, располагающиеся рядом друг с другом; все добродетельные чувства устремляются к благочестивому, аскетическому — и тем необузданнее мстит мирское, полностью предоставленное в распоряжение дьявола. Когда что-нибудь одно перевешивает, человек либо устремляется к святости, либо грешит, не зная ни меры, ни удержу; но, как правило, эти воззрения пребывают в шатком равновесии в отношении друг друга, хотя чаши весов то и дело резко колеблются, устремляясь вверх и вниз, и мы видим обуреваемых страстями людей, чьи пышно расцветшие, пылающие багряным цветом грехи временами заставляют более ярко вспыхивать их рвущееся через край благочестие»[23].
Упомянутое здесь «шаткое равновесие» как раз и обеспечивается той странной субстанцией, которая, являясь основой всех человеческих свойств, находится как бы «между» небесным (потусторонним, божественным) и земным. Поэтому осмысление бытия именно как человеческого связано в рамках онтологии творения не с требованием о-формления себя в соответствии с идеей человека (как в онтологии Единого), но с идеей спасения или «обожения». В переводе с религиозного языка на язык философии это новое требование, предъявляемое человеку, означает необходимость постоянного отказа от своей земной природы в пользу божественного (трансцендентного) начала, символизируемого фигурой Христа. Действие, связанное с таким отказом или преодолением своей земной (тварной) природы, не может быть завершено до тех пор, пока длится физическая жизнь человека. Именно поэтому «полюс» земного должен постоянно присутствовать в жизни человека во всей своей «оголенной», т. е. лишенной духа, вещественности, — как-то, что выступает объектом преодоления. Враждебность к плоти, к естественным, т. е. природным, физиологическим, аспектам человеческой жизни, свойственная духу Средневековья, выступает оборотной стороной признания силы этого телесного начала.
Интуицию человека, осуществляющего свою жизнь в контексте идеи спасения, можно выразить следующим образом: «Во мне есть нечто, необходимое для моей жизни и в то же время нуждающееся в преодолении: то, без чего невозможно мое человеческое существование и в то же время препятствующее этому существованию». Именно в контексте этой интуиции и существуют все крайности, связанные с «умерщвлением плоти», которые так характерны для средневековой культуры. Речь идет вовсе не о ненависти к плоти как таковой, которая выступала бы антиподом античной «телесности», но о высвобождении, вы-явлении того таинственного личностного «ядра», которое не дано человеку в готовом виде, но рождается в действии преодоления своего плотского начала.
- [1] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 836.
- [2] Боэций. Комментарий к Порфирию // Боэций. Утешение философией.С. 19−20.
- [3] Абеляр II. Тео-логические трактаты. М., 1995. С. 79−80.
- [4] Там же. С. 86.
- [5] Альберт Великий. Об интеллекте и интеллигибельном // Антология средневековой мысли. СПб., 2001. С. 68.
- [6] Альберт Великий. Об интеллекте и интеллигибельном. С. 71.
- [7] Цит. по: Антология мировой философии. Т. 1, ч. 2. С. 838.
- [8] Фома Аквинский. Сумма против язычников. С. 241.
- [9] Оккам У. Избранное. М., 2002. С. 83−85.
- [10] Там же. С. 71.
- [11] Там же.
- [12] Оккам У. Избранное. С. 99.
- [13] Там же. С. 101.
- [14] Там же. С. 3.
- [15] Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 2004. С. 236.
- [16] тЛе Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 261−262.
- [17] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 325.
- [18] Абеляр 11. Тео-логические трактаты. С. 69−70.
- [19] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 189.
- [20] 1,8 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 188.
- [21] Хейзинга Й. Осень Средневековья. С. 236−237.
- [22] Хейзинга Й. Осень Средневековья. С. 56−57.
- [23] Там же. С. 213.